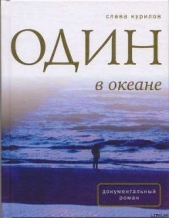Дорога на океан

Дорога на океан читать книгу онлайн
Роман Леонида Леонова "Дорога на Океан" - одно из лучших произведений советской литературы 30-х годов. Повествование движется в двух временных измерениях. Рассказ о жизни и смерти коммуниста Курилова, начальника политотдела на одной из железных дорог, обжигающе страстной струей вливается в могучий поток устремленных в Завтра мечтаний о коммунистическом будущем человечества.
Философский образ Океана воплощает в себе дорогу в Будущее, в воображаемую страну, и всечеловеческое добро и справедливость, и символ и смысл жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А когда все окончится...— емкая пауза включила в себя несказанные слова о временном ее уродстве, о всяких лишеньях и хлопотах, о родовых муках, — ...когда кончится все это, мы поедем все трое к любому морю. Уж на этот раз я отвоюю себе отпуск. И мы, двое стройных и любящих мужчин, согреем этот холодный носик, озябший от слез...
Фигурально выражаясь, это была последняя нитка кетгута. Но тогда Лиза отпихнула его в грудь и закричала, что ребенка не будет, не будет, что нет ему ребенка, что этот маленький требовательный человечек никогда не войдет в их жизнь...
— ...я убила его... в тот раз. помнишь, когда ты вернулся и я сказала, что угорела в театре!
Больше всего боясь, что он сочтет ее признанье следствием запальчивого желания доставить ему боль (а потом будет долго терзать ее ожиданием ребенка!), она спешила назвать ему переулок, день, час, цену и тысячи прочих подробностей, убеждавших в непоправимости происшедшего. Весь ее намеренно приподнятый до крика рассказ служил прикрытием ужасного смущенья перед мужем, который, по ее же собственной морали, вправе был почитать себя ограбленным. Спрятав лицо в ладонях, вся раскачиваясь, может быть жалости к себе добивалась она. Сквозь расставленные пальцы она видела его глухое важное лицо, темное на горле пятнышко от запонки, которое заметила только сейчас, и глубоко вырезанные ноздри, где шевелились черные волоски... и казалось, что весь он изнутри подбит курчавым жестким мехом, без горячих человеческих внутренностей, механический и рассудочный человек. Ей становилось тем более страшно, что уже иссякал ее крик, а он все еще не проронил ни слова. Вдруг он сказал:
—- Я вытру вас из себя... га, как стирают губкой написанное мелом! — и, повернувшись на каблуках, пошел вон из комнаты.
Заложив руки за шею, он вошел в столовую. В окнах светало; кто-то успел потушить свет, и тем явственнее белели раскиданные по полу окурки. Илья Игнатьич услышал, как тихо и вкрадчиво Лиза позвала его, но остался стоять. Ему было удивительно, что когда-то одно приближение этой женщины повергало его в почти юношеское смущенье. Помимо воли всплывали в памяти подробности этого запьянцовского балагана и представал Ксаверий, в сотню раз поганее, чем он был на деле. Не ревность, но брезгливость испытывал Илья в эту минуту. Потом он услышал звук, множественный и разгонистый, точно с размаху швырнули о пол пригоршню монет.
Слышно было, как последняя катилась дольше всех, по спирали, смыкая круги. Он понял это так: Лиза любым способом хотела вернуть его назад, чтобы самой перейти в наступленье. Машинально он припомнил все вещи на своем столе, какая из них могла произвести такой ломкий и хрусткий звон. Через его глаза прошли — граненый синий стаканчик, где хранились перья и цветные карандаши, потом новехонький цистоскоп с уширенным полем зрения и великолепными цейсовскими призмами, чудо оптической техники, только что привезенное из-за границы, и, наконец, китайское эмалированное блюдечко, куда складывались старые бритвы, запонки и всякая канцелярская мелочь. И его мучило, что он не может вспомнить того главного, что еще четверть часа назад видел у себя на столе.
— ...что там упало? — через всю квартиру гаркнул он.
В три громадных шага он достиг двери кабинета и заглянул. Лиза сидела на корточках, спиной к нему. Одна выше другой торопливо двигались ее лопатки. По осколкам голубой эмали, разбрызганной по полу, Илья Игнатьич догадался, что погибла его кароновская луковица. (Он имел привычку всякую новинку своей коллекции подолгу выдерживать на столе, пока не освоится с нею.) С глубоким и злым любопытством он зашел сбоку. Дрожащими исколотыми пальцами Лиза пыталась втиснуть назад в исковерканный футляр все эти колесики и шестеренки. Количество их как будто удвоилось. Маленькие частицы неизменно выпадали из ее рук и, покатавшись, снова ложились перед нею.
— Они у меня не влезают...— жалобно прошептала она и с отчаянием подняла голову.
Одним мимолетным словом он мог овладеть ее душою навсегда. Он не понял. Челюсти его разомкнулись, как зев пещеры. Он зевнул преувеличенно громко и пошел вон из кабинета.
— Ящер, ящер...— вдогонку ему шепнула Лиза. ...через два часа она неслышно, босая, приблизилась
к двери и заглянула. Илья Игнатьич в одной сорочке сидел у посветлевшего окна, посасывая свой коньяк. На этот раз она не решилась нарушить его раздумья, но через час ее снова разбудило тревожное ощущение одиночества. Мужа не было в комнате. Она испугалась, но, проходя мимо зеркала, задержалась на мгновенье: актриса хотела запомнить, какое лицо бывает при этом. (В ее натуре было переживать свои несчастья быстро, бурно и бесследно.) Илья Игнатьич сидел на прежнем месте, и почему-то коньяка в бутылке значительно прибавилось. (Она отлично запомнила, что в прошлый раз уровень жидкости приходился по нижнему краю ярлыка. Второпях трудно было сообразить, что это была вторая бутылка.) Лиза подошла к мужу. Стратегия ее была до крайности проста: легкий шелк подчеркивал ее наготу.
— ...но это же глупо пьянствовать в одиночку,— смущенно сказала Лиза.
Он молча поднялся и взялся за трубку телефона. Номер, названный им, не был известен Лизе; он звонил в больницу, но не в свой кабинет, а в комнату дежурного врача. Очень заботливо он расспрашивал о здоровье какой-то Евы. Чужое женское имя поразило Лизу; в первую минуту она была готова заподозрить даже в этом разговоре прозрачную и банальную хитрость всех мужей. Нет, ее не интересовали его шашни с пациентками!
— Меня крайне беспокоит участь этого ребенка. Она улыбалась мне даже на столе!.. Да, мать можно допустить теперь,— продолжал Илья Игнатьич.— Зайдите к ней и позвоните мне потом. Я не буду спать...
Тогда Лиза вспомнила, что этой Еве всего пять лет. Ей стало холодно и стыдно, и собственное появление ее здесь в такую минуту казалось примером какого-то крайнего распутства. Горбясь, она вернулась к себе.
Я РАЗГОВАРИВАЮ С ИСТОРИКОМ А. М. ВОЛЧИХИНЫМ
Мальчика Луку Омеличева я встретил только раз, в одно из последних посещений Курилова и почти накануне того, как произошли грустные и непоправимые события. Сидя на полу, он играл с моделью паровоза, поднесенного Алексею Никитичу железнодорожниками. Такого страстного восторга перед вещью я никогда еще не наблюдал у детей. Игрушка действительно была чудесна. Она обладала всеми подробностями настоящего паровоза. И даже, если просунуть палец в будку машиниста, можно было нащупать на котле тоненькие трубочки инжекторов. Стоило толкнуть легонько механизм, и поршни двигались, колеса бежали, а мальчик бил в ладоши и, запрокинув голову, трубно мычал в воздух. Было не шибко весело смотреть на эту последнюю ветвь омеличевского дерева.
Когда я занимался в Пороженске всякими раскопками о детстве Лизы, мне посчастливилось отыскать одного краевого патриота, Андрея Матвеича Волчихина. Превежливый старичок с двухъярусным шишковатым лбом и цепкими проворными руками, он приходил в некое поэтическое исступленье, если речь заходила о его родине,— впрочем, в радиусе не свыше ста километров. От него я и обогатился кое-какими сведениями об омеличевской родословной. Я зашел к нему на часок, а он усадил меня в красный угол и, забаррикадировав самоваром и всякими маринадами, до утра потчевал диковинками пороженской старины. Он водил меня по дремучим лесам земли Буртас и древней Мордии Константина Порфирородного, мимо шалаша легендарного мордвина Теша, через вотчины первых мордовских правителей Пурейши и Пургаса, сквозь буйные орды болгар и половцев. Я наклонялся над князем Иоанном Брюхатым, что принял смерть от казанца Арапши на речке Пьяне; наблюдал благочестивого Димитрия Константиновича, удирающего из Нижнего без штанов; дивился подлости Симеона Кирдяпы, натравившего татар на восточную окраину тогдашней Руси. В упор, размахивая буздыханами, двигались на меня из мрака ночи громадный Улу-Ахмет с сыном Мамлюком, ногайский мурза Ахмед-Амин, полонивший воеводу Хабара Симского, что погребен в подполье пороженского собора, поджигатель и громила Сафа-Гирей во главе своих ватаг, и, наконец, запросто присаживался к столу какой-то Ибрагимка, а чего он натворил в истории, я уже не разобрал. Утомясь в одночасье от мелькания имен тихих наших рек и урочищ, буйных монастырей и военных деятелей, поивших кровью неплодные здешние пески, я боролся с сомнением, не врет ли. не расцвечивает ли зря свою пустыню этот оглушительный старичок. Было жарко натоплено в его лачуге; вдобавок пучило меня от волчихинской солонины, слишком долго ожидавшей гостя на дне глубокой кадки. А хозяин все попихивал меня в бок, чтобы запоминал я это дымящееся крошево безглавых туловищ, опустошенных храмов и обугленных богатств. Сконфуженный таким гостеприимством, икая и скорбя, я брался за шапку, и снова поддавался магии его бисерного и образного повествования. И снова он вгонял в меня неисчислимые массы чая, гриба и особо хрустких, сатанинской прелести, ватрушек.