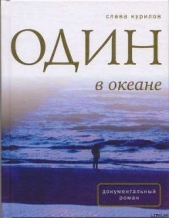Дорога на океан

Дорога на океан читать книгу онлайн
Роман Леонида Леонова "Дорога на Океан" - одно из лучших произведений советской литературы 30-х годов. Повествование движется в двух временных измерениях. Рассказ о жизни и смерти коммуниста Курилова, начальника политотдела на одной из железных дорог, обжигающе страстной струей вливается в могучий поток устремленных в Завтра мечтаний о коммунистическом будущем человечества.
Философский образ Океана воплощает в себе дорогу в Будущее, в воображаемую страну, и всечеловеческое добро и справедливость, и символ и смысл жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— ...я говорил тебе: разруби себя, и если срастется, приходи, поговорим об искусстве. Я не знаю верного рецепта, никто не знает, у каждого по-своему. В древности продавали душу дьяволу, позже влюблялись в негодяя с крашеными усами и в обтертой визитке. Говорят, что помогает также, если убить мужа... Не пойми меня буквально, милочка: дело целиком предоставляется твоему вкусу и изобретательности. Ты девушка, способная на все.— Он снова покосился на Протоклитова, который теперь, допив коньяк, старательно составлял розочки из кусочков семги. — Но живи, двигайся, бойся душевного жира и помни: то, что не горит, — не зажигает! А пока не тем ключом ты отпираешь дверь в искусство. У всех нас развилась дрянная потребность нравиться начальству, а истинный успех приходит только снизу, и слава наша — отход производства, стружки с души, мусор, щекотная и ядовитая пыль нашего цеха. А ты полагаешь, что от близости с большим начальством ты вырастешь в высоту? Только в толщину, милочка, только в толщину! (Несомненно, Илью Игнатьича он принимал по крайней мере за директора какого-нибудь промышленного комбината.) Не нравится тебе моя правда?
— Ну, ты ее не очень, не очень! — испуганно затормошился старикашка, а сам придвинулся ближе, чтоб не пропадало ни словца. — Ты уже больно тово, под ложечку...
— Помолчи, Закурдаев! — небрежно отмахнулся Яго. — Ты, как ревизор, появляешься у меня только в финале. Ешь пока! Ешь, что подороже: завтра не дадут. Жри, уничтожай! Пускай она платит за то, что мы сидим за ее столом.
Нужно было какое-то длительное раздражение, усиленное вдобавок нехваткой вина, чтобы при муже так дерзко поносить жену. Он прервал поток своих ругательств лишь затем, чтобы чокнуться с Фальстафом. «За нищих комедиантов!» — воинственно возопил толстяк, открывая карты, и реплика прозвучала как пароль заговорщиков. Он выпил и с комическим ужасом взирал себе на живот, который двигался и содрогался. Его пухлые пальцы побежали по опустевшим тарелкам; одинаково поступал бы и живописец со своею палитрой, творя образ знаменитого обжоры и задиры. Пользуясь передышкой, Лиза метнулась на кухню, и через четыре минуты вынужденного молчанья три котлеты, обеденная порция Ильи Игнатьича, шипели и смрадили на сковородке. Так, усердными хлопотами по хозяйству Лиза стремилась купить сострадание товарищей по ремеслу. Никто не обращал внимания на ее испуганную суетливость, чтоб не увеличивать степени униженья; никто, кроме мужа. Затем, присев на краешек дивана, она украдкой следила, как Яго капризно расковыривал доставшееся ему мясо.
Еще вчера, еще вчера — как хотелось ей залучить к себе этого холодного, озлобленного, всегда чем-то обиженного человека! Приобретая его расположение, она тем самым завоевывала признание всех остальных врагов, которые его боялись. И как она каялась теперь в своей предприимчивости! Она вспомнила недавнюю остроту директора о нем: «Закройте же наконец этого человека, я простужаюсь от него!» За три года Лиза хорошо узнала Пахомова. Этому актеру никогда не везло. Не испытав даже простой известности, он с тем большей желчностью знатока распространялся о существе славы. Когда профессия актера не далась ему, он сменил ее на грозную профессию неудачника. Единственную женщину, полюбившую его, постигла судьба Комиссаржевской: ее сглодала черная ташкентская оспа. Женщину звали Елена Арене, она была отмечена задатками великой актрисы, память о ней всячески поддерживалась в театре, где работала Лиза. Как всякая молодая организация, театр нуждался в своих собственных святых. Давняя близость с этой женщиной безмерно возвышала Пахомова в глазах товарищей; так выглядит благодарность мертвых. И правда, он положил немало усилий, чтоб помочь покойной актрисе овладеть ее дарованием. Но когда умирает творение, судьбу ее неминуемо разделяет творец. Сам того не замечая, он уже четыре года жил на проценты со своей тайны. В эту пору люди были забывчивы; все чаще приходилось ему трогать свой основной капитал. (Амплуа неподкупного судьи временно спасало его самого от нападок. Щадить Лизу — значило бы растрачивать свою злую репутацию — все, что у него оставалось.) Все знали, что очень скоро он заговорит о Елене, и было интересно, как это у него получится на сей раз.
— Итак, разберем по пунктам один момент твоей биографии, милочка...
— Поздно, Пахомов!.. Пора по домам!—торопливо заметил Виктор Адольфович. — А то у тебя, братец, сегодня какой-то деструктивный ум...
— Жуй свой паек и не дави мне колено, — скрипуче продолжал Яго, входя в азарт расправы. — Ты модный постановщик, тебе даже городничего в трусиках простили, а я старый актер и друг Ксаверия Закурдаева. Мы заработали право говорить во всяком доме, где проживает актер. Целых восемнадцать лет мы таскались с ним по провинции, из города в город, полуголодные (или, наоборот, страдая от переполнения желудка, что одно и то же!), беднее церковных крыс, в сапогах, напоминавших апостольские сандалии, зато в шляпах, этих засаленных фиговых листках благородной нищеты! И мы пропили с ним наши юности не потому, что папа с мамой зародили нас в беспутный час, а потому, что старый русский актер — мотор, работающий на тяжелом топливе. В российскую глушь, где моральные нормы диктовали поп с исправником, мы тащили грузную колымагу с Шекспиром, Островским и другими святыми отцами мирового репертуара. Мы изучили на себе географию этой страны — размах ее бессмысленных пространств, лютость ее морозов, разливы ее воистину песенных рек, своевольное гостеприимство ее жителей, из которого только и узнаешь про ядовитость чужого хлеба. Ну-ка, вы, нынешние, в трусиках, походите по ней!., и кто из тех пастухов, ставших замнаркомами, или сельских учителей, которые нынче вершат историю мира, не помнит нас, коробейников великого искусства? Ха, хлопайте нам; если уж не сытный харч и обеспеченную старость, то по крайней мере это сотрясение воздуха мы заслужили с ним! — Он переждал несколько мгновений, глаза его увлажнились, и тоска раздвинула его губы. Сейчас это был родной брат Ксаверия, осмысливший свою бездомную юность.
— Не дотянули, не дотянули мы с тобой, — всхлипывая, шептал Закурдаев и все требовал, чтобы тот рассказал про какой-то особенный, саратовский случай.
— Молчи, они не поймут про Саратов! — вскинулся Яго.—И вот перед вами сидит пьяный, глухой, всем надоевший Закурдаев. Спрячься, неряшливый, гнусный старик, не срами истории русского театра. Эта женщина стыдится тебя и ненавидит меня за то, что я притащил тебя с собою, как призрак, как совесть, как чуму. Ничего, милочка, не жалей его, черт с ним! Российский актер всегда любил умирать на больничной койке. Он будет лежать в большой сводчатой и тухлой комнате, с березовым поленом под головой; молодые люди с ножичками вынут из него сердце со следами алкоголического перерожденья. Они не будут знать, что это чучело, составленное из тряпья и горсти седых волос, было когда-то актером проверенного мастерства, честного, наивного, хоть и дикарского таланта. Он был смешной, он разносил балюстрады, играя Отелло, а в Трильби выходных актеров хоть на веревках подтаскивай к нему, как к Сальвини или к Рыбакову. Он уходил со сцены в царапинах, порезах, синяках, в тридцать лет — с одышкой, чтоб, напившись в своей мурье, перележать ночь до следующего спектакля. Это был не ваш зритель, нынешний, который ходит в музеи, в публичные библиотеки, в вечерние университеты... Наш зритель зачастую был волосат, неграмотен и дик; о и знал единственную книгу — псалтырь, книгу мертвых! — все более запальчиво продолжал он. — Нужно было ежевечерне взрываться самому, чтобы потрясти эту нечеловеческую мещанскую пустыню. Да, милочка, этот ничтожный старик заставлял содрогаться или ликовать от радости страшилищ в чиновничьих мундирах, в чуйках, в ватных картузах, ремесленников, никогда не видавших неба и смертно лупивших своих жен со чады! Мы пахали эту пустыню мещанства наравне с сельскими учителями и безвестными агитаторами будущей правды. Этот старик — целая академия! Повернись в профиль, Закурдаев, пускай они тебя запомнят навсегда... ты особенно хорош в профиль. Правда, эта академия любит выпить, всегда любила...