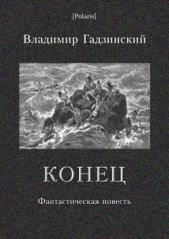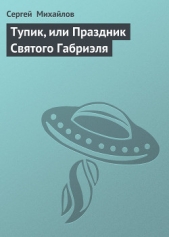Бог после шести(изд.1976)
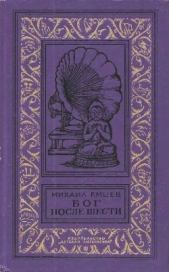
Бог после шести(изд.1976) читать книгу онлайн
Михаил Емцев. Бог после шести(Притворяшки). Повесть. изд. 1976г.Фантастическая повесть, рассказывающая о группе молодежи, не удовлетворенной жизнью,об их ошибках, приведших к трагическим последствиям.Виктор, рабочий шинного завода решает сменить профессию и жизненную ориентацию на почве духовной неудовлетворенности. По пути он спасасет от колес автомобиля странного старика, кричащего «Все сбудется!», а через подругу детства знакомится со странной компанией из йога, художника, медиума, невротички, продавца и бывшего боксера, которые называют себя «притворяшки».Содержание:Михаил Емцев. От автора, стр.5-8Михаил Емцев. Бог после шести (Притворяшки) - фантастическая повесть, стр.9-239Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации Э. Шагеева
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Двери сарая взвизгнули, из них вылетел темный клубок, который тотчас распался, обнаружив в центре своем гневного Кару. Спиной отступал проповедник к машине, открещиваясь от наседавших молодцов.
— Тю! — кричали лесорубы. — Сотвори чудо, отче!
Маримонда и Кара втиснулись в автомобиль, Худо резко дал газ, и, конечно же, мотор снова заглох. Набежавшие работяги загалдели, засвистели, принялись раскачивать машину, норовя перевернуть ее в темную канаву, покрытую узорным ледком. В стеклах мелькали красные, опаленные морозом щеки, вислоухие ушанки, веселые блестящие глаза.
Неизвестно, чем бы кончилось изгнание притворяшек, не появись человек в белых бурках. Он что-то сказал негромко, но основательно, и толпа сразу рассыпалась. Даже заводила в полушубке отстал, помахивая издали здоровенным кулаком. “Москвич” пополз по разъезженной дороге, цепляя днищем обледенелые комья снега. Густой черный шлейф дыма натужно волочился за машиной.
Притворяшки сидели молча, съежившись и нахохлившись. Побитые бездомные собаки, у которых нет сил для лая. Только Кара ярился:
— Алкоголики! Пьяницы проклятые! Безбожники, не будет вам счастья ни в труде, ни в личной жизни! Деньги, что на сберкнижках, заработанные вами в поту, прахом пойдут! В болезнях изойдете в геенну!
— Олег, останови машину! — вдруг сказал Костя. Худо повернулся, посмотрел на него, затормозил.
Костя вытянул из свалки вещей свой маленький плоский чемоданчик, выбрался наружу, просунул голову в дверцу:
— Я ухожу. Лесорубы подкинут до станции. Кто со мной?
Он оставил щель, через нее потянуло холодом. На фоне темного леса лицо его слабо белело. Долгие звенящие секунды.
— Закрой, а то дует, — сказала Маримонда. Пуф хлопнул дверцей.
— Поехали.
Пуф оглянулся. Тонкая фигурка Кости-йога медленно уменьшалась. Махнет ли рукой на прощанье?
Нет, это ветки колышутся. Ветки темного черного леса, через которые пробиваются желтые огни поселка. Костя ушел к тем огням, а притворяшки двинулись дальше по накатанной зимней дороге.
“Не получилось у Кости сражение с черным наставником, — размышлял Пуф. — Замахнулся, но не ударил. Может быть, выдержки не хватило. Или вспомнил о трансе своем злополучном, не состоявшемся. Понял, что с Карой очень просто последний покой потерять, рассчитывать на благолепие здесь не приходится. Ушел, как песню оборвал. Махнул рукой, — мол, ну вас, — и отвалил. Что ж, и так тоже можно. Но нам торопиться некуда. Мы еще погодим, погодим. Нам еще во многом предстоит разобраться. Не к спеху”.
Пуф поглубже утвердился на сиденье. Без Кости посвободней стало. Мари дремала, свернувшись калачиком. На щеках ее в темноте поблескивали следы высохших слез. Кара одеревенел впереди, бормотал что-то про себя. Молился или ругался. У него это как-то совпадало и по тембру и по смыслу. Он к богу и людям с одной руганью обращался.
А Худо истово рулит. Похоже, в своем водительском труде обрел разновидность некоего самобичевания. Интересно.
Пуфу все интересно. А больше всего — куда заведет их дорога. Куда вырулят смятенные души притворяшек, в какие дебри их занесет, на какие горные выси поднимет? И поднимет ли?
18
Эти дни были для Маши сном наяву. С того момента, как она выбежала из дому, оставив письмо к матери и хлопнув крашеной дверью своей коммунальной квартиры, сознание ее не прояснилось. Мир вокруг потерял признаки реальности, ни в чем не было окончательной достоверности. Действительность отступила от молодой женщины и ощущалась как мало связный, не слишком волнующий сон. Там, во сне, шел снег, вихрилась ледяная позёмка, вышагивали черные деревья-великаны, мелькали незнакомые человечки. Но все это не вызывало доверия в ее душе. Как-то не так все было, нельзя было этому верить.
Однажды они приехали в маленький город. Маша никогда не спрашивала названий тех мест, где Худо останавливал “Москвич”. Ни к чему ей было, да и запоминать не хотелось, “замусоривать память”, как она говорила. Не спросила названия города она и на этот раз, но он поразил ее. Собственно, не город, а то, как она увидела его розовым зимним утром. Домишки вросли в снег, на лиловых железных крышах переливались самоцветы. Почему-то сразу поехали на рынок, и там ощущение сказочности укрепилось. По-оперному выглядели длинные деревянные стойки с товарами и румяные бабы за ними. Морозный иней опушил платки; казалось, все торговки в кокошниках, глаза блестели от холода, слова звучали звонко, точно потрескивал лед. Примороженные свиные тушки выглядели бутафорией. И разговор шел неестественно веселый, случайный.
Слушая, как Пуф кокетничает с веселой колхозницей, Маша подумала:
“Я умру”.
Подумала, как сказала вслух — громко, явственно. Или кто-то произнес эти слова за нее? Заиндевелый рынок, чайная в сизо-зеленом домике, встающее слепое солнце показались ей декорациями к неведомой пьесе.
Когда-нибудь, может быть — сейчас, пьеса кончится, придется встать и уйти. В финале — смерть.
“Они не притворяшки, — решила про себя Маша, — они колобки. Катятся, катятся навстречу… чему? Ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?”
Маша напряглась и поняла: она ждет смерти. Нет, было не страшно, лишь одно удивление — неужели именно теперь?
Солнце поднялось повыше, и город порозовел. Настоящее цветное зимнее утро. Но Маша твердо знала — это обман. Там, за переливом искр на снегу, за блеском взглядов, за улыбками, за твердостью, теплом и жизнью, расположилась необъятная черная пустота. Она-то и есть главная, потому что ее много и всё в конце концов в нее попадает. Все. В том числе, она, Маша.
В присутствии Маши часто говорили о смерти. Потом она ее увидела. Смерть дочери оглушила ее. Горе было огромным и глубоким.
И все же тогда она не понимала. Ее спасал здравый смысл и непрерывная надежда. Надо жить, говорили кругом — близкие, родные, друзья. Надо жить, твердила мать. Ты еще молода.
Эти слова повторялись на все лады. Ты еще молода. Еще. Еще. А не “еще” — тогда можно и не жить? Молода. А не молода… Глупости, вопиющие глупости говорили ее родственники.
Маша сердилась, много думала, любила поговорить о смерти. Притворяшки умело разглагольствовали, и смерть как тема всегда их привлекала.
Маша тоже говорила, но не понимала.
Видела, сопереживала, но вся суть ее живой натуры была далека от смерти.
И вдруг морозным утром в чужом, до враждебности незнакомом месте — поняла. По-своему. Я умру.
Поняла, испугалась. С надеждой посмотрела на Кару. С надеждой и преданностью.
Любила его.
Сложное это было чувство, поди расшифруй, в какие иероглифы сворачивается любящая душа. “Сильный, очень сильный человек, — думала Маша, — вот кому можно поверить, на такую личность можно опереться”.
Любила Кару, как меломанки — прославленного тенора. Любила просто — как вероятный уют, тепло и возможность свернуться калачиком, мурлыкать сладко и долго.
Любила непросто — в ожидании бурь, встрясок, неожиданных озарений…
Полюбила еще и потому, что ни бывший муж, ни Худо и в подметки не годились Огненному старцу. Так считала Маша.
Старая, как мир, игра с тщеславием: меня отвергли, а я нашла лучшего!
Временами на нее накатывал серый туман безвременья. Тогда ничего не происходило вокруг Маши, все уходило в прошлое. Вдруг вспоминала, как муж стал присылать деньги по почте. Почему-то было очень обидно получать большие красные и маленькие зеленые бумажки, отсчитанные быстрыми пальцами почтальонных кассиров. Денег было оскорбительно мало, и постепенно от мужниного молодого лица у нее в памяти ничего не осталось, кроме шуршания бумажных полосок. Со смертью дочери этот звук пропал. Сколько раз пыталась Мария вспомнить мужа и не могла. Вычистило, вымело из мозга образ предавшего человека. Мать удивлялась:
— Как ты можешь? Не позвать отца на похороны ребенка!
— Я забыла, мама, — говорила Маша и про себя напряженно соображала: какого отца, о ком речь? Тот молодой человек с необыкновенным блеском глаз, в ореоле курчавых черных волос представлялся ей далеким, случайным, каким-то троллейбусным знакомым. Поговорили и сошли на разных остановках. Муж? Нет, мать решительно ничего не понимала…