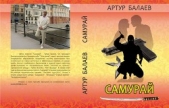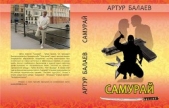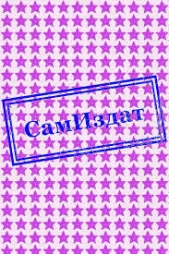Самурай (СИ)

Самурай (СИ) читать книгу онлайн
Заключительная часть романа «Иероглиф». Странствия неприкаянной души завершаются… Сетевая публикация.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поезд ушел, а я остаюсь один на платформе в ожидании чего-то или кого-то. Получается такая спасительная для моих рук и головы пауза, когда можно позволить себе положить кисти на мольберт, усесться в глубокое мягкое кресло и попытаться отстраненно взглянуть на то, в чем ты сейчас жил, оценить насколько верен замысел, насколько все то, что задумал, выплеснулось красками на холст, и, может быть, стоит, пока не поздно, соскрести ножом неудавшиеся мазки и нанести новые.
Это трудно — перестать быть собой, посмотреть чужими, абстрактно, а не конкретно чужими глазами, что намного сложнее, чем перевоплотиться в хорошо знакомого критика, и его голосом высказать, чего в этом супе не хватает, здесь же нужно потерять новизну, перестать рисовать в голове уже нарисованное, забыть о тех мыслях и поступках, которые толкнули на создание шедевра, и посмотреть на него без личного подтекста, просто как на картину, как смотрит на картины, как читает книги подавляющее большинство людей — не имея понятия об авторе, о его судьбе, о причинах, приведших к столь забавной рефлексии.
Просто быть один на один с картиной, просто читать текст, что можно сколь угодно долго называть мещанством, любительством, но именно на это и рассчитаны великие, по-настоящему великие произведения (свое я к ним пока не причисляю) — тут не нужно ничего, ни комментариев, ни критики, что бы до каждого дошли те казалось бы банальные мысли, которые и лежат в основе всего на свете: как хорошо жить, например.
Самое лучшее — накрыть ее бумагой и забыть месяцев на девять, на волшебный срок, требуемый не только для появления человека, но и для созревания произведения, просто чтобы оно лежало в тиши, чтобы в нем происходили уже свои собственные, независимые от моего желания и руки подвижки, изменения, когда все вроде бы остается на месте — краски, текст, но, тем не менее, многое меняется, в том числе и в моей собственной голове, где истончается, рвется ментальная пуповина, связующая меня с моим ребенком, где безвозвратно тонут в бездне памяти подпорки, на которых я возводил свой замысел, тот сор, из которого растут стихи, и это хорошо, это благотворно, так как избавляюсь от утилитарного взгляда на картину, как на манифест, долженствующий выразить мои взгляды, мою философию, позвать за собой других куда-то в фальшивую даль, и если после всего этого она еще живет, не тонет, не растекается, становясь мне чужой, приятным, но отстраненным собеседником, то, значит, все прошло хорошо.
Я лишаюсь ребенка, но обретаю друга, а возможно, и врага, я навсегда теряю право отвечать на сакраментальный вопрос — что вы имели в виду, создавая это произведение? То, что я имел в виду, уже не имеет к нему никакого отношения, с таким же успехом можно задать встречный вопрос — что вы имеете в виду, когда смотрите на эту картину? Мы теперь равноправны, мы имеем одинаковое право на нее, на ее интерпретацию, на критику, на ругань, на плескание серной кислоты и удары ножа.
Как не жутко звучит, но все теперь будет к лучшему, долой статику, долой мертвое умирание в музеях и частных коллекциях, долой умиротворение и восхищенное пускание слюней на воротник, долой вежливость и уважение к титанам и богам, ведь мы равны; чтобы оценить что-то, нужно этого лишиться и, желательно, окончательно и безвозвратно, вот тогда мы и поймем важное, главное в картине, тексте; нет ничего гениальнее ненаписанных и уничтоженных картин и книг.
Я осознаю необходимость смерти и готов принять ее, впустить в созданный лакированный мирок тех, кто помогут выяснить его устойчивость, его жизнеспособность, и у меня нет времени ждать девять месяцев и даже девять минут, нужно работать, рисовать, забывать и лишаться, и начну я немедленно, но для этого нужен поезд, неважно в какую сторону, заманчиво оттопыренный карман и человек, самый реальный человек в здешнем царстве силуэтов.
Начался очередной человеческий прилив, подчиняющийся немыслимо сложному клубку самых разнообразных, но несомненно коррелирующих событий, как то — окончание рабочего дня, движение троллейбусов и автобусов по и вне расписания, метеорологические условия, время захода солнце и лунная фаза, которые вкупе приводят к тому, что строго через семь минут платформа заполняется людьми, на зеленом табло загораются нули, наверняка самые реальные управляющие мировыми событиями, и к платформе подплывает хищно приплюснутая стрела электрички, остроумно размалеванная под акулу, брюхо ее лопается, и она жадно поглощает нас всех, таких вежливых, тактичных, уважающих старость.
Народ рассаживается, развешивается, устраивается, добродушно и доброжелательно смотрит на вынужденных соседей и бдительно следит что бы случайно не коснуться кого-нибудь. Шуршат газеты и книги, пищат компьютеры, двери закрываются, все крепче ухватывается за рукоятки и прочие анатомические выступы салона, слышится долгожданный гудок, и поезд набирает скорость. Картина за громадными окнами смазывается, как-то сереет, теряет привлекательность, люди скучно уставляются в только им ведомые точки, опять же стараясь ненароком не наткнуться на блуждающий взгляд соседей. Мне кажется, что задайся некто подобной задачей — расставить людей так, чтобы из глаза не встречались друг с другом, то ему бы пришлось очень долго ломать над ней голову, если вообще не признать ее неразрешимой. Здесь же все достигается на уровне автоматизма.
Наконец, аляпистый мир хрустальных ламп, мрамора и золотой лепнины стянут с поезда, словно носок, на мгновение воцаряется такая важная для меня тьма, вспыхивает свет под выгнутым потолком вагона, и я с некоторым разочарованием убеждаюсь, что мой карман нисколько не облегчился — его все так же оттягивает кожаный мешочек с золотыми монетами, пересыпанными мелкой крошкой аметистов и чароитов.
Странно, я начинаю разглядывать в стекле смутное отражение салона, пытаясь абстрагироваться от лунного пейзажа подземных пещер, витков проводов и умопомрачительных по толщине прозрачных труб, в которых и ползают электрички как огромные светящиеся черви океанских глубин. Приходится напрячь глаза, внимательно просмотреть каждый силуэт, а это более трудная задача, чем найти предателя на тайной вечере. Почему-то воображается, что мой реальный герой должен выделяться в толпе, светиться внутренним одухотворенным божественным светом, как не кощунственно подобное звучит по отношению к нему, но никаких выдающихся личностей я не замечаю — обычные лица, умело нанесенные парой легких мазков, что на расстоянии создает иллюзию их тщательной прорисованности, характерности.
Приходится оглядеться по-настоящему, делая вид, что ищу старых знакомых или более удобного местечка для созерцания заоконных красот, собирая на сетчатку более точные фотографии, чтобы потом, опять задумчиво глядя в никуда, мысленно перебрать их, откидывая заведомо неподходящие, откладывая в сторонку очень и очень подозрительные. У меня копится внушительная колода подозреваемых, которых необходимо еще более тщательно просеять, но тут я внезапно натыкаюсь на него и восхищаюсь собственной глупостью и его артистизмом. Первая и последняя заповедь — быть незаметным, слиться, раствориться даже в самой яркой и в самой блеклой толпе, пригасить искру расчетливости, придать рукам неуклюжесть, телу неповоротливость, но, опять же, не чрезмерную, а в самый раз, на тонкой грани достоверности, реальности. Мы с ним в чем-то похожи — ведь он тоже творит искусственную, иллюзорную реальность, но уже из самых обычных людей, заставляя их видеть то, что нужно ему, чувствовать самые обычные прикосновения, даже в самые решающие моменты — искусство и гениальность порой принимает удивительные формы.
Мне хочется им любоваться — его мимикрией, серостью, обычностью, расплывчатостью — ни одного шевеления, дерганья лица, могущих потрескать подсыхающую краску картины и выдать его с головой. Я чувствую родство наших душ, нашу плоть и кровь, а не скипидар и масло, и поэтому он обречен, так как чувствует тоже самое, ему чудится некая странность в окружающих его людях, он жмется ко мне, стоя за спиной и дыша в затылок. Я мог бы даже не вывешивать угрожающего вида зазубренный крючок с нацепленной на него приманкой, он и так бы зацепился на него, повис на нем, но должна быть благодарность в этом моем мире, могу же я позволить хоть небольшую сатисфакцию, если только ему очень и очень повезет, но тут я не властен.