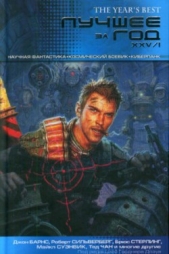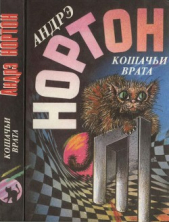Купец и волшебные врата (сборник)

Купец и волшебные врата (сборник) читать книгу онлайн
Что, если человек действительно построит башню от земли до неба - и прорвется на другую сторону? Что, если мы вдруг узнаем, что математические истины, которые мы считали незыблемыми, - совсем не таковы? Что, если язык "чужих" навеки изменит наши представления о времени? Если христианские представления об аде и рае окажутся истинными до буквальности? Что, если?..
Перед вами - впервые собранные вместе произведения писателя, которого критики называют мастером интеллектуальной притчи. Повесть и рассказы, каждый из которых был удостоен престижной награды и признан новым словом в жанре. Почему? Секрет этого заключен в прозе Чана.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но, зная это, я все равно не стану собирать такое устройство, и никакое другое не стану. Для него понадобилось бы много сделанных на заказ компонентов, все достаточно трудные и в изготовлении и требующие немалых временных затрат. А главное — создание такого устройства не доставило бы мне особого удовольствия, поскольку я и так знаю, что оно будет работать, а никаких новых гештальтов оно не высветит.
Я пишу в порядке эксперимента поэму. Написав первую песнь, я смогу выбирать подход к объединению образов в пределах всех искусств. Я пользуюсь шестью современными и четырьмя древними языками; они включают в себя большинство главных мировоззрений человеческой цивилизации. Каждый дает мне новые оттенки значений и поэтические эффекты, некоторые сопоставления оказываются поразительными. Каждая строка поэмы содержит неологизмы, порожденные продавливанием слов через сито чужого языка. Если бы я закончил произведение, получилось бы что-то вроде «Следа Финнегана», умноженного на «Песни» Паунда.
Мою работу прерывает ЦРУ; оно ставит на меня капкан. После двух месяцев попыток тамошние специалисты признали, что обычными методами им меня не найти, и приняли более решительные меры. В новостях сообщили, что подружка некоего маньяка-убийцы арестована по обвинению в помощи и содействии его побегу. Имя ее — Конни Перритт, девушка, с которой я встречался в прошлом году. Если дело дойдет до суда, она получит немалый срок. ЦРУ надеется, что я этого не допущу. Оно ждет от меня маневра, который заставит меня выйти на свет, тут-то меня и поймают.
Предварительные слушания по делу Конни завтра. ЦРУ добьется, чтобы ее выпустили под залог, может быть, с поручителем, если надо будет — это даст мне возможность с ней связаться. Все окрестности ее квартиры они напичкают агентами в штатском, которые будут меня ждать.
Я начинаю редактировать первый экранный образ. Эти цифровые фотографии — грубая подделка под голограммы, но для моей цели они годятся. На сделанных вчера снимках — окрестности дома Конни, улица перед ним и ближайший перекресток. Я вожу курсором по экрану, проводя перекрестием над определенными местами снимков. Окно в доме наискосок через улицу: свет выключен, но занавеска отодвинута. Уличный разносчик за два квартала позади дома.
Всего я отмечаю шесть точек — где вчера ждали агенты ЦРУ, когда Конни вернулась к себе. Просмотрев мои видеопортреты, сделанные в больнице, они знали, что искать у всех прохожих мужского или сомнительного пола: уверенная, ровная походка. Эти ожидания их и подвели: я просто сделал шире шаг, покачивал головой вверх-вниз, не так резко размахивал руками. Это и еще несколько нетипичная одежда вполне отвело им глаза, когда я вошел в зону наблюдения.
Внизу фотографии я печатаю частоту, на которой переговариваются агенты, и формулу, описывающую используемый ими алгоритм шифрования. Закончив, я передаю изображения директору ЦРУ. Смысл ясен: я могу убить ваших агентов в любой момент, если их не уберут.
Но чтобы они сняли обвинения с Конни и чтобы ЦРУ меня больше не отвлекало, придется еще поработать.
Снова задача выделения закономерности, на этот раз — весьма обыденная. Тысячи страниц рапортов, докладных записок, писем — каждая как цветовая точка на картине пуантилиста. Я отступаю от этой панорамы, смотрю на линии и грани, создавая всплывающий образ. Мегабайты, которые я сканирую, — всего лишь доля всех записей за изучаемый период, но их хватит.
То, что я нашел, довольно ординарно, куда проще сюжета шпионского романа. Директор ЦРУ был в курсе плана группы террористов взорвать метро в Вашингтоне. Он допустил взрыв, чтобы получить согласие Конгресса на крайние меры против этой группы. Среди жертв оказался сын одного конгрессмена, и директор ЦРУ получил полную свободу действий против террористов. Хотя его планы не прописаны прямо в файлах ЦРУ, они совершенно ясны. В соответствующих записках делаются только осторожные намеки, и эти записки тонут в море невинных документов. Если бы какая-нибудь комиссия по расследованию должна была прочесть все эти записи, улики потонули бы в море хаоса. Но вытяжка из нужных записок прессу убедит.
Я посылаю список документов директору ЦРУ с примечанием: «Не трогайте меня, и я не трону вас». Он поймет, что выбора у него нет.
Этот маленький эпизод укрепил мое мнение о делах мира. Я мог бы вскрыть тайные интриги где бы то ни было, если бы был в курсе текущих событий, но все это неинтересно. Я возобновляю свои занятия.
Контроль над телом усиливается. Я бы сейчас мог пройти по горящим углям или втыкать себе иглы в руку, если б захотел. Но мой интерес к восточной медитации ограничен ее применениями к физическому контролю. Никакой медитативный транс для меня не столь желанен, как то состояние, когда я составляю гештальт из стихийных данных.
Я создаю новый язык. В обычных языках я ограничен рамками, и они не дают мне двигаться дальше. Им не хватает силы для выражения нужных мне концепций, и даже в своей родной области они неточны и неуклюжи. Еле-еле они годятся для речи, что уж там говорить о мысли.
Существующая лингвистическая теория бесполезна: мне придется переоценить заново основы логики, чтобы определить подходящие атомарные компоненты для моего языка. Этот язык будет поддерживать диалект, обладающий выразительной способностью всей математики, так что любое написанное мною уравнение будет иметь лингвистический эквивалент. Но математика станет всего лишь малой частью этого языка, а не целым: я в отличие от Лейбница осознаю пределы символической логики. Другие диалекты будут предназначены для моих обозначений в эстетике и теории познания. Проект займет немало времени, но конечный результат невероятно прояснит мои мысли. Когда я переведу на этот язык все, что знаю, картины, которые я ищу, проявятся сами собой.
Я прерываю работу. До того, как составить систему эстетических обозначений, надо определить словарь всех эмоций, которые я могу себе представить.
Мне знакомы многие эмоции, помимо эмоций обычных людей, и я вижу, насколько ограничен их эмоциональный диапазон. Я не отрицаю действенности любви и тревожного страха, которые когда-то испытывал, но вижу теперь их такими, как они есть: как увлечения и огорчения детства, они лишь предвестники того, что испытываю я сейчас. Мои страсти стали более многогранными: растет мое знание самого себя, и эмоции усложняются экспоненциально. Я должен уметь дать их полное описание, если собираюсь хотя бы приступить к ожидающей меня работе.
Конечно, на самом деле я испытываю куда меньше эмоций, чем мог бы: мой интеллект ограничен теми, кто меня окружает, и скудным взаимодействием, которое я себе разрешаю с ними иметь. Мне вспоминается конфуцианское понятие «рен»: это качество, неадекватно переводимое как «благожелательность», является квинтэссенциально человеческим, и его можно взрастить только взаимодействием с окружающими, одинокому его проявления недоступны. А вот я, а вокруг люди, повсюду люди, но ни одного, с кем взаимодействовать. Я — лишь доля того, чем может стать личность с моим интеллектом.
Я не обманываю себя ни жалостью к себе, ни тщеславием: я могу оценить свое психологическое состояние крайне объективно и последовательно. Я точно знаю, какие у меня есть эмоциональные ресурсы и каких нет и насколько я ценю каждый из них. Я ни о чем не сожалею.
Мой язык обретает форму. Он предназначен для гештальта — гештальт он представляет весьма удобно для мысли, но бесполезно для речи или письма. Его не переписать в виде линейно расположенных слов, разве что в виде огромной идеограммы, которую надо воспринимать как целое. Такая идеограмма может яснее картинки передать то, что не скажет тысяча слов. Изощренность каждой идеограммы была бы соизмерима с объемом содержащейся информации. Я развлекаюсь мыслью о колоссальной идеограмме, передающей всю вселенную.
Печатная страница для такого языка слишком неуклюжа и статична — единственным пригодным средством была бы голограмма, воспроизводящая графический образ, меняющийся во времени. Говорить на этом языке в принципе невозможно, учитывая ограниченную полосу частот человеческой гортани.