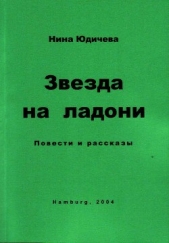Осенний мотив в стиле ретро

Осенний мотив в стиле ретро читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Так это из научной фантастики? — радостно уточняю я. — Ну, Уэллс и прочие изобретатели машины времени, да?
— Уэллс написал обычную сказку, — радужно переливаясь, внушает мне голубой человечек, — а остальные долго ему подражали. Серьезные идеи движения во времени появились куда поздней, они связаны с теорией культуроидных структур, и вообще все это слишком сложно и скучно для дружеской вечерней беседы.
— А что такое культуроидные структуры? — искренне удивляюсь я.
— Это как раз нехитро, — по-моему, с плохо скрываемой зевотой объясняет гном. — То, что относится к передаче небиологической наследственности обучение, социальная адаптация, со временем формирует устойчивые структуры образы искусства, науки, религии. Это особый мир…
— Нечто вроде платоновских эйдосов? — демонстрирую я эрудицию.
— Если бронзовые зеркала, которыми Архимед пытался поджечь римский флот, что-то вроде ваших лазеров, то и эйдос — нечто вроде культуроидной структуры в нашем понимании, — терпеливо растолковывает мне гном. — И вообще, я не намерен читать лекции о твоем будущем — далеко не все может тебя обрадовать…
Я же знал, что тарелка зря висит над моим домом темного гуманитария. Физик вцепился бы когтями и все выпытал, даже рискуя увидеть собственное будущее в не слишком розовом свете.
Что бы ему и впрямь не повисеть в иных местах, внушая идеи переплавки танков в велосипеды, конструкцию своего блюдца или, на худой конец, приличного картофелеуборочного комбайна. Неужели важнее забрасывать меня, биографа-собаку, в иные времена, дразнить ощутимостью давно ушедшего, где ничего не исправишь и никому не поможешь?
— Должно быть, так, — продолжает он, — и ты не удивляйся, оно бесспорно важнее. Никакие комбайны не заместят понимания человека. И не иронизируй над образом собаки, внедрившимся в тебя. Надо спасать мертвых во имя живых, этому учат сенбернаров, но иногда забывают учить писателей. Если не заглядывать в прошлое, всамделишное, а не игрушечное, велик риск интеллектуальных мутаций, легко остаться без будущего, вообразить, что история открывается карьерой твоего высокопоставленного папеньки и блестяще завершается твоими умственными упражнениями…
Какого дьявола ты трогаешь отца? Чтоб тебя самого так высоко поставило…
— Обидчив ты не в меру, — ухмыляется гном. — Я ведь не о тебе лично, так — для примера, хотел показать, что наши путешествия действительно важны. Но кстати, я и тарелка здесь ни при чем. Это должно стать личной потребностью и зависит только от тебя.
Красивые слова! Куда бы я заглянул, не зависни твоя тарелка именно над моим домом и именно этой осенью? Куда бы я заглянул, не слетай она предварительно во времена Струйского, не проследи его жизнь от первых до последних мгновений и, наконец, не облучи меня каким-то неизвестным полем воображения? Вот тебе и атмосферный фантом…
— Да нет же, нет! — отчего-то нервничает голубой человечек. — Это твоя тарелка, вернее, твой и уже опознанный летающий объект. Постарайся хоть сейчас что-нибудь понять. Ты сам делаешь шаги во времени, сам платишь за каждый свой шаг, и это твой фантом…
Он устал прыгать на разделяющий нас сверхвысокий барьер, устал от бесконечных своих путешествий, и усталость его вливается в меня, упругими волнами перекатывается внутри, и в резонанс с ними постанывают мои бедняги-кентавры.
Этот голубой дымок, в сущности, тоже один из них. Я устал. Бог с ними, с вопросами…
— Так-то лучше, — генерирует голубой человечек. — Знаешь, я утром исчезну, но ты не будешь в одиночестве. Утром жди гостей.
Я их давно жду и очень живо вижу грядущий день, включая загрузку Сережиного «Москвича» дачной амуницией.
— Но эта ночь твоя. Если ты способен еще, если желаешь… — с явным сочувствием вздыхает гном. — Только потом не жалей о принятых решениях.
О чем жалеть? Радоваться…
— Не финти, — слышу я отчетливо, словно реальный голос, — если захочешь, к утру я могу стереть все твои нелегальные впечатления. Пусть останется добротная и удобная модель потребного тебе десятилетия, черно-белая, без всяких там пестрот и полутонов, без всяких стереопроекций во времена иные. И будет недурно, а?
Куда девалась моя летающая мраморная птица?
Человечек словно бы пожимает плечами, на самом деле облако начинает вибрировать, становится все прозрачней и куда-то исчезает.
В тот момент мог бы присягнуть, что оно втянулось в меня, заняло свое место среди отдыхающих кентавров, но секундой позже — ни за что. Его просто не стало, как, вероятней всего, и не было никогда.
Дело, видимо, в том, что я возвратился с чашкой чая к своему креслу нелепой, но крайне удобной конструкции. Уселся, и тут же завьюжило — смирно гревшиеся друг о друга образы понеслись хороводом, и в свисте, очень напоминающем назойливый аккомпанемент первого контакта, стало чудиться разное. Все, как в его полудетском:
Рыбой, выброшенной на берег, билась в жару Симочка, звала его, но его не было рядом, а там, в далеком сибирском поселении, он неуютно ворочался за столом, что-то предчувствуя и слепо листая тихонравовское издание «Жития».
«Сице аз, протопоп Аввакум, верую, сице исповедаю, с сим живу и умираю».
Вьюжит. До чего же они медлительны, письма, — пока дойдут, на целый дюйм подрастает маленький Кеша.
«Трогаться сюда не следует, никаких средств не хватит, а наших тем более. Право же, стоило хорошенько ограбить господина Сазонова и К°, а заодно и пару банков, дабы сидел я со спокойной совестью, а вы во всем довольство испытывали. Но талантов к тому Бог не дал.
Кеська наш не понимает ничего, оно и к лучшему — в свое время отыщутся длинноязыкие доброхоты, а пока береги его, как сможешь.
И не казнись — эти господа не таким, как ты, руки выкручивали. Твои слова ничего в судьбе моей не изменили, ибо все предопределилось заранее, до суда. Ты была и есть единственный свет в зарешеченном окне моем. И останешься им настолько, насколько хватит сил твоих.
Сохрани тетради, не знаю зачем, но сохрани — это, может быть, все, что от меня осталось».
С Россией что-то творится, думал он, меряя камеру шагами, недавний глоток свободы не пройдет даром, никого теперь, кроме господина Сазонова и иже с ним, идеей мировой гегемонии не купишь.
Надо ломать, своими руками ломать, только жаль, что я поздно это понял, когда чужие руки ловко сломали меня, загнали в дыру, откуда не выбраться, откуда добровольно рванешься вприпрыжку по бесконечным ступеням черной лестницы на звук все ниже и ниже удаляющихся отцовских шагов.
Холод, холод, всюду холод, и никуда от него не деться, каждое слово дыхание на пальцы, а перо больше царапает бумагу, чем пишет.
— Ничем не могу обрадовать вас, госпожа Струйская, — скажет невысокий человек в очках. — В данных обстоятельствах я никак не сумею издать книгу Бориса Иннокентьевича. Это поставило бы нас, меня и компаньона, в двусмысленное положение. Любой критик, разнюхавший официальную формулировку его дела… вы понимаете?..
Не уставая хлопают двери, одна, другая, третья — захлопываются. Весьма сочувственно захлопываются.
Состояние здоровья-с? Прошение, мадам, прошение на высочайшее имя. Непременно разберутся… весьма сожалею…
Ды ладно, барин, усмехается некто безликий, однако обозначенный в записях Струйского как Сенька Убивец, кончай ты свою писанину, мотнешься в очко, полегшает, ей-богу… дописался небось…