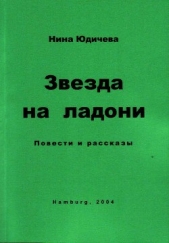Осенний мотив в стиле ретро

Осенний мотив в стиле ретро читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Полковник Ильин передергивает плечами, словно противен ему этот философский гомункулус, живущий сообразно идеалам.
— Устал я с вами, — тоскливо говорит он. — Разоткровенничался, а вы? Ну да Бог рассудит, молчите. Хотел я было вторую картинку перед вами разыграть, поинтересней первой, да не стану, пусть она вам сюрпризом покажется. Как раз к Рождеству…
На этом все прерывается — нет кабинета с капканом, нет Струйского. Я сижу в кресле и сквозь наплывающую головную боль пытаюсь сообразить, в кого же я швырял мраморной птицей — в полковника или в голубого гнома. И мельтешат передо мной странные обрывки: каменная стена государственных интересов, о которую бессмысленно расшибается пепельница, краснобокий, уютно поблескивающий медными частями «Паккард», модель 1907 года, лоскутки каких-то вальсов проносятся в голове, и никак, ну никак не выходит проникнуть туда, в камеру с сероватыми стенами и огромным потеком сырости в верхнем углу.
«Паккард» урчит и не хочет трогаться с места. Холеная ручка с перламутровыми ногтями тянется к позолоченной телефонной трубке, дабы впрыснуть туда бесконечно милые глупости о последнем карлсбадском сезоне.
Улыбки: эк господин Измайлов по сологубовской «Королеве Ортруде» проехался! Неужто не читали? «Биржевые ведомости», да-с!.. и нафедорит Сологуб… ха-ха…
Благословенное неспешной возвышенностью ретро, где всюду есть ход, кроме камеры с сероватыми стенами и огромным потеком сырости в верхнем углу.
Пусть завтра голова развалится, но сегодня мой день.
Действительно, передо мной, вокруг меня, всюду — камера. И невероятный дух, концентрат сырости и беды, — беда пахнет по-своему.
— Будьте вы прокляты, — громко шепчет Струйский.
Кто — вы?
Дело-то повернулось второй картинкой, кою добродушный полковник Ильин не пожелал объяснить. И возможно, первая, весьма тщательно нарисованная, кажется теперь Борису Иннокентьевичу едва ли не идиллией.
Похихикивая и неуклюже пританцовывая в цветастой гирлянде патриотических бантиков, проплывает перед ним Иннокентий Львович, мудрый и слишком впечатлительный родитель его. И пытается бить земные поклоны перед укрепленным в рамочке самоличным письмом Пуришкевича Владимира Митрофановича и толстой пожелтевшей пачкой «Русского знамени», под рамочкой сложенной.
И поскользнувшись на странных, ни в какие рамки не втискивающихся событиях, начинает стремительно — со ступеньки на ступеньку — спрыгивать вниз по бесконечной черной лестнице в неведомый подвал, откуда нет и быть не может выхода. А гирлянда нитью Ариадны, скорее всего бесполезной, разматывается и ложится под ноги сыну, и сын рвется туда, чтобы выхватить отца из небытия — вот-вот захлопнется и за ним дверь подвала, но последним усилием он выскакивает на волю, где нет ничего вольного, где блуждают полковничьи картинки, зато нет и бесконечной черной лестницы, откуда доносятся удаляющиеся всхлипы отца, его неровные и почти ритмичные шаги, отзвук которых сглатывается теменью, растирается в шелест листьев на длинной парковой аллее, вдоль которой убегает в одуванчиковую метель безрассудная Симочка…
— Будьте вы прокляты, — мечется Борис Иннокентьевич на символическом своем тюфячке.
Дело-то повернулось второй картинкой — никто не стал свидетельствовать Струйского на предмет психический. Медики трогательно забыли о нем, и даже появившийся у него неприятный кашель ни в малой степени их не заинтересовал. Зато полковник и кое-кто из старых знакомых заботами не оставили.
В один прекрасный день на столе Ильина возникла тоскливенькая серая папочка с парой небесталанно состряпанных бумаг, из коих следовало, что господин Струйский изволит являть собой образ мошенника, притом вполне законченного.
Ибо обязавшись прочитать для членов местного отделения «Союза Михаила Архангела» курс лекций о древнеримской национальной политике, сей ученый муж взял преизрядный аванс, а от исполнения договора увильнул.
Получился отлично взболтанный криминал-коктейль, и даже сейчас, через много лет, не высветить многих и многих тонкостей — или не даже сейчас, а теперь уже… В общем, не высветить.
Разговор относительно лекций действительно был. Господин Сазонов, председатель местного отделения, самолично нагрянул с визитом и после долгих рассуждений о первом, втором и третьем Риме и сетований в адрес учителя истории, не понимающего своего патриотического долга, предложил Струйскому участвовать в богоугодном деле, разумеется, не безвозмездно.
Борис Иннокентьевич посмеялся, хотя и не слишком оскорбительно для верноподданного слуха, и более или менее деликатно пояснил, что далек от историко-проповеднических идей и вообще изрядно занят иными делами. На том, к пущему неудовольствию господина Сазонова, все и завершилось.
Разумеется, Сазонов настаивал, весьма прозрачно намекал на неблагоприятное мнение о текстах, предпочитаемых Струйским в гимназии, наконец, прямо заявил, что господину учителю предоставляется уникальная возможность это мнение исправить… Он много и воодушевленно говорил, однако без особых результатов.
И в дневнике Струйского — в отрывочных слепках момента, именуемых теперь дневником, — возникла насмешливая запись с острой цитатой из «Зрителя» («А здесь идея и значки, Своя печать, свобода глотки, Любовь начальства, много водки, Патриотизм и пятачки»).
Бесспорно и то, что запись попала в серую папочку, превратившись в форменное вещественное доказательство — ага, разговор-то был!
Никаких реальных сведений о передаче Борису Иннокентьевичу трехсот рублей аванса, конечно, нет, если не считать свидетельства трех почтенных членов «Союза», готовых клятвенно подтвердить факт передачи, а впоследствии это и сделавших.
— Вопиющая нелепость, — бился на следствии Струйский. — Гнусная провокация. Я этих господ в глаза не видал. С тем же успехом Сазонов мог указанную сумму себе в карман положить…
— В рассуждении положения вашего не следовало бы словами такими бросаться, — терпеливо вздыхал Ильин. — Свидетели указывают, что имели дело с супругой вашей, через нее аванс и вручили. Желаете ли очной ставки и привлечения Серафимы Даниловны в качестве соучастницы?..
Так-то.
— Будьте вы прокляты, — рычит в подушку Борис Иннокентьевич, — …ть-те вы-про-кля-ты…
Но наплывают светлые минуты, когда можно заглянуть в прошлое, совсем вроде бы недавнее, не взорванное, не затуманенное обозленностью.
— Это потрясающе! — восклицает Иннокентий Львович, отбрасывая газету. Я всегда утверждал: все дело в человеке, человек способен на многое недоступное нашему воображению. Но каков этот Гудини! Представляете, он сидит в Бутырках, в запертой одиночной камере, скованный по рукам и ногам, а вскоре исчезает оттуда, и еще меняет местами других заключенных…
— Говорят, он проделывал этот фокус в Англии и в Гамбурге, — с улыбкой говорит матушка. — Не понимаю однако, как удается…
— Как бы ни удавалось, — горячо перебивает ее Иннокентий Львович, важно, что освобождается. Я думаю, это будет серьезнейшее искусство в новом веке — умение выбираться из застенков…
— И самостоятельно выбираться из шестифутовой могилы, — весело добавляет она.
— Зря смеетесь, Татьяна Павловна, зря смеетесь, — говорит отец, — я ведь серьезно. Это сейчас, в девятьсот третьем, смешным кажется, однако пройдет немного лет, и вообразите себе — мир начнет погружаться в застенки, и тогда вспомнят о Гарри Гудини. Ведь некогда и телескоп представлялся фокусом досужих умельцев…