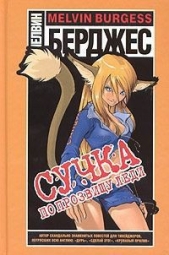Знак Его любви
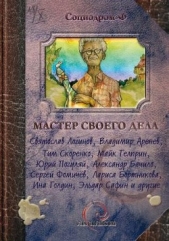
Знак Его любви читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Екатерина Лесина
Знак Его любви
Суку возьму. Определенно суку, вон ту, с медово-желтой в мелких завитках шерсткой и подслеповатыми, только-только начавшими открываться глазами. Я ее еще в прошлый раз заприметил, а вот теперь уверился — если кого и брать, то ее. Свернулась в углу корзины и жует лапу, сосредоточенно так, целеустремленно. Иголочки усов подрагивают, из беззубой пасти тянутся ниточки слюны, и щенуха сердито ворчит.
— Ух ты какая. — Харм поднял желтую за загривок, та выпустила лапу и заворчала громче, отчетливее. — Свирепая… уверен?
— Уверен.
— Так это, может, погодь пока? Ну, с недельку-другую, а то ж мала́я еще, подохнет.
— Не подохнет.
— Ну, сам гляди, на́ вот, — сунул в руки и отвернулся.
Теплое круглое тельце ворочается в ладонях, трется мокрым носом о пальцы, повизгивает, пахнет молоком и свежим сеном.
— Ты тока это, — не выдержал Харм уже в воротах. — Сразу-то не клейми, а?
Не могу: обычай есть обычай.
Свеча. Горячие капли белого воска стекают на салфетку. Наливаясь жаром, белеет и перстень-печать, щенуха лежит рядом, водит из стороны в сторону лобастой головенкой, принюхивается. Секундная жалость, бесполезная и привычная — может, и вправду погодить следовало? — захват пальцами шеи, чтобы не крутилась, прикосновение железом, визг и вонь паленой шерсти.
Клеймо вышло ровным, аккуратным, и знак четко виден.
— Все уже, все, не визжи… заживет. Как же назвать-то тебя, а?
В этом году весна запаздывала; ждали и боялись, сами не зная, чего больше: того, что все ж задержится чересчур, или того, что нагрянет. Нагрянут.
Каждое утро Исхийя выходил во двор, щурился на солнце, прикладывая полированный глядельный камушек то к левому, то к правому глазу, тер знак на лбу, расчесывая его до красноты, вздыхал, дергал себя за куцую бороденку и мелом добавлял на щите черту. И торопливо, почти бегом, скрывался в доме: это чтобы людей не видеть и не слышать.
Запаздывала весна. Уже ден на пятнадцать как запаздывала. И сегодня небо было серо-войлочное, плотное, и солнышко-то не показывалось почти, зябко было. А Исхийя каждый день ходил и глядел на небо, Пастушьи ворота выискивая. Чего глядел? И так понятно — не дождутся они сегодня весны.
Может, завтра свезет?
— А в Мальчицах уже, — зашептала Барвиниха. — Седмицу как…
— Откуда знаешь? — Вячка передвинулся поближе, похлопал себя по бокам, попрыгал, согреваясь. Люди зашикали — всем холодно, не ему одному, а Исхийя сегодня что-то совсем уж завозился.
— Мне Алышка сказала. Намедни заходила, ихнюю ж девку за Курчана сватать хотели.
Вячка кивнул — ясное дело, хотели, деревня ведь большая, крепкая, за сорок дворов, а если с хуторами, то, считай, вдвое. В другой какой год за радость было бы пойти, но какая ж свадьба, когда весна запаздывает? А вдруг с Пастухом что случилось?
А Барвиниха прямо в ухо горячо зашептала:
— И взяли-то, взяли только Лутку-рыбака…
Одного? Редко так бывает, обычно двоих-троих, а тут… поневоле начинаешь думать, что скорей бы уже, и тягомотно становится ждать.
Исхийя, спрятав стеклышко в мешочек, а мешочек в карман, заковылял к расписанному меловыми черточками щиту, но новой черты не добавил. Уперши взгляд в мерзлую землю, он произнес:
— Все… не придут в этом годе… самим надобно.
— Ох ты ж мамочка моя! — заголосила Барвиниха. Бабы подхватили, и дети с ними, и редкие, приблудившиеся собаки тоже.
Мужики расходились молча, стараясь не встречаться взглядами.
— Сидеть. Кому сказал, сидеть! Вот так, умница. А теперь лежать. И не рычи, не рычи, ишь, свирепая… не нравится тебе дрессура? На свободу тянет? Ветер-то весной пахнет, чуешь, чуешь, девочка моя… кровь не обмануть. Ну уж нет. Лежать! Рано тебе вниз. На вот лучше, заслужила. Ешь, родная, ешь… привыкай ко вкусу. И не скребись, зажил уже твой знак, зарубцевался. Да, да, у меня такой же. Он всех метит…
Собрались, как заведено, в доме старосты, тот загодя приготовил холщовый мешок, на боку которого виднелась свежая латка.
— Мыши погрызли, — пояснил Исхийя, поглаживая пыльную ткань, натянувшуюся, обрисовывающую ровные кругляши камней. — Давно это… не проводили.
Давно, годков пятнадцать уже, а то и больше. Вячка обряда сам и не помнил, не участвовал, от отца слышал, а тот любил поднапустить страху, как тяжко без Пастухов. Вячка слушал и не верил: как это — тяжко? Вот ждать их прихода по-настоящему тяжко, гадать, кого выберут, трястись, заслышав звонкий собачий лай и голос Пастуха, тихий вроде, но каждое словечко различить можно. Правда, с людьми Пастух никогда не говорил, брезговал, видать, а вот суку свою — здоровую, клыкастую, черного окрасу с рыжими подпалинами на груди и брюхе — любил. А Вячка их обоих крепко ненавидел. Казалось, что ненавидел, теперь же вот…
— Седай, — Михаль подвинулся. Места в избе было маловато, разрослась деревня, с каждого двора по человеку — и вот уже не повернуться.
Последним явился Алшын-мельник, кивнул и, стянув шапку и тулуп, кое-как примостился на краю лавки. Исхийя поднялся, откашлялся и заговорил:
— Знамо… милости лишившись… во грехах погрязши, Вышнего прогневили… — он запинался на каждом слове, и казалось, древняя фраза будет тянуться бесконечно. — Отвергли руку, милость дарующую…
Никто не перебивал. Ждали. Слева сопел, давя в себе кашель, Иван, справа ерзал на лавке Михаль.
— И да простятся нам грехи наши… и да пребудет Новейший Завет, завет Крови, не во искупление пролившейся, но в знак любви.
Первым тянул мельник, вытащил черный камень, ничего не сказал — положил на стол перед собою. А дальше как-то просто пошло: белый, опять белый… черный… два белых, черный. Еще черный. И еще.
Тяжко дастся в этом году весна, уж лучше бы пришли.
Вячка безо всякого страха сунул руку в пыльную, отчетливо пованивающую навозом утробу мешка, правда, долго не мог уцепить неожиданно скользкий гладыш, а потом, поймав-таки и вытащив, — разжать пальцы.
Белый. И сердце заколотилось, застучало стыдливо и радостно.
— …На кого рычишь? На кого скалишься? У-у… злющая. Укусить хочешь? На́, кусай. Крепче, крепче зубы сжимай, рука та самая, которая клеймо поставила. Помнишь? Конечно, помнишь, ты же умная, я тебя сразу заприметил. Что глядишь-то? Или кусай, или не кусай. Лижешься. А вот это ни к чему… Любишь, только ты и любишь. Хвостом виляешь… к следующей весне уже пойдем, нельзя их там одних надолго… Пастух да не бросит стадо свое. А они мои, меченые. Все мы тут меченые, Его любовью связанные. Порой, веришь, думаю, что лучше б этот мир подох. Ладно, не слушай, не о том говорю, о Нем рассказать бы надо, только в другой раз… в другой, сказал. Лежать! У-у, бесова твоя душа, играться хочешь? Ну, давай, пока можешь. Ищи… да, вот такой же запах ищи. Тренируй нюх.
Стылая земля с серым, плесневым налетом: не лед и не снег, среднее нечто — перемертвие.
— Эх… — Исхийя, опустившись на колени, принялся разгребать сизые, прорезанные крупными порами кучки и сыпкую, с мелкими комочками-камушками землю. — Эх, было время…
Замолчал. Глянул снизу вверх, нахмурился. Помогать же надо, вот и помогали — кто землю чистил, а Вячке выпало перемертвия носить за границу круга. Белые и черные камни в лунном свете поблескивали одинаково, неразличимо по цвету и ярко — так, что хоть глаза прикрывай. Только негоже от знака закрываться.
— А ведь когда-то не было ни отары Его, ни Пастухов, ни Псов… — бормотал Исхийя. Его слушали внимательно, с почтением.
Носить Вячке помогал мельник, прихватывал края рогожи, подымал осторожно, чтоб не рассыпать ни крупинки, и, кивнув, пятился в темень, нащупывая ногами прежние следы. Работали молча, и постепенно в центре поля разрасталось черное пятно чистой земли.