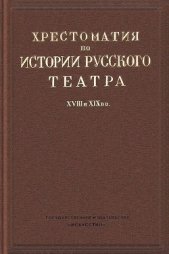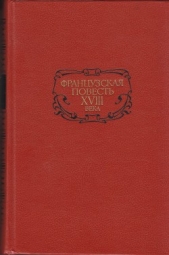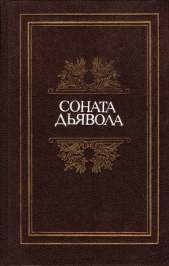INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков

INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков читать книгу онлайн
Обширный сборник страшной французской прозы дает довольно широкую панораму готической литературы. Его открывает неоднократно переводившийся и издававшийся Влюбленный дьявол Жака Казота, того самого, который знаменит своим пророчеством об ужасах Французской революции, а завершают две новеллы Ги де Мопассана. Среди авторов — как писатели, хорошо известные в России: Борель, Готье, Жерар де Нерваль, так и совсем неизвестные. Многие рассказы публикуются впервые. Хотелось бы обратить внимание читателей на два ранних произведения Бальзака, которые обычно теряются за его монументальными эпопеями.
Составитель книги и автор вступительной статьи — С. Зенкин, один из крупнейших на сегодняшний день знатоков французской литературы в России; и это может послужить гарантией качества издания.
Сборник включает лучшие готические произведения французской прозы прошлого века. Среди авторов: Ж. Казот, С. А. Берту, Ш. Нодье, П. Борель, Ш. Рабу, О. де Бальзак, Ж. де Нерваль, Т. Готье, П. Мериме, Ж. Барбе д’Оревильи, Ж. Буше де Перт, К. Виньон, О. Вилье де Лиль-Адан, Г. де Мопассан. Большую часть сборника составляют тексты, впервые переведенные на русский язык.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С другой стороны, она опирается и на ряд других элементов новеллы, в особенности высказываний рассказчика. Последний сам иногда начинает подыгрывать Пейрораду и играть классическими аллегориями. Например, увидев, как камень, брошенный в Венеру, больно ударил — рикошетом? — самого метателя, он восклицает: «Еще один вандал, наказанный Венерой!» (Ему стоило бы скорее задуматься о том, что статуя, стоящая рядом с игровой площадкой, точно воспроизвела жест игрока, парирующего мяч…) Вообще он склонен рассматривать жизнь провинциалов, среди которых находится, критическим взглядом чужака-парижанина, судить о них с моральной точки зрения — отсюда, в частности, его антипатия к грубому Альфонсу. Но, сколь бы ни были оправданны подобные оценки, они неспособны обосновать справедливость жестокого возмездия, обрушившегося в финале на Альфонса — а заодно, кстати, и на его ни в чем не повинную молодую жену. Морально-символическая система так же не в состоянии объяснить фабулу новеллы, как и система фактографическая. Это, пожалуй, особенно ясно видно в связи с моральной сентенцией рассказчика, открыто направленной против буржуазного брака:
Я думал о молодой девушке, такой прекрасной и чистой, отданной этому грубому пьянице. «Какая отвратительная вещь, — говорил я себе, — брак по расчету! Мэр надевает трехцветную перевязь, священник — епитрахиль, и вот достойнейшая в мире девушка отдана Минотавру…»
Эти слова, продиктованные, как сознается сам рассказчик, досадой холостяка, попавшего на чужую свадьбу, произносятся в ночь после свадебного пира, как раз перед тем, как на лестнице послышатся металлические шаги Венеры. Их смысл — мрачно-иронический: пока рассказчик предается моральной риторике и классическим реминисценциям, сожалея о судьбе невесты, в том же самом доме ужасной смертью гибнет жених: именно ему выпало оказаться на брачном ложе с чудовищным существом из потустороннего мира, своеобразным эквивалентом Минотавра.
В самом деле, третий — легендарный — смысловой слой новеллы Мериме представляет собой не что иное, как очень тщательно, со множеством мелких деталей разработанный сюжет о «потустороннем браке».
Действующим лицом, персонифицирующим мифологический тип «порождения смысла», является статуя — существо принципиально нечеловеческое, исключенное из современной антимифологической культуры, которая лишь кое-как пытается интегрировать ее с помощью своих археологических знаний и риторических упражнений. Статуя непосредственно на себе несет весь сюжет новеллы в сжатой, свернутой форме — в виде надписи на цоколе «CAVE AMANTEM», иначе говоря «моя любовь — смерть». По отношению к тексту новеллы эта надпись является метатекстом, его концентрированной формулой, — что характерно для мифологического мышления, мыслящего с помощью повторов и трансформаций подобных метатекстуальных формул-мифов.
Уже в открывающем новеллу рассказе проводника вырытая из земли статуя охарактеризована как «идол» — языческое божество, то есть, с точки зрения христианства, демон, — как «мертвец, лезущий из земли». И в дальнейшем в облике Венеры постоянно подчеркиваются инфернальные черты — темный цвет, «бесовское выражение лица». Даже сам владелец статуи, господин де Пейрорад, не понимая толком, чем он играет, строит свое застольное стихотворение на мотивах ее «черноты» и подземного происхождения.
Провинциальная свадьба, описанная в новелле, целым рядом мотивов связана с архаическим ритуалом брака с божеством-тотемом (ср., между прочим, картину деревенской свадьбы во «Влюбленном дьяволе» Казота, служащую прелюдией к «брачной ночи» Альвара с дьяволом): к древним традициям восходят и обильная еда, и непристойные шутки по адресу новобрачных, и мотив подставной невесты, каковой парадоксальным образом оказывается сама юная мадемуазель де Пюигарриг; настоящей невестой является Венера, именно ей достается сакральное, «рыцарских времен» кольцо Альфонса, тогда как «официальная» невеста получает кольцо профанное, подарок «парижской модистки», Архаической традиции отвечают и игры перед лицом богини, и даже угроза полового бессилия, которой рассказчик стращает неумеренного в питье Альфонса («чтобы не отстать от сотрапезников, и я сказал какую-то глупость»). Брак с тотемом для традиционного сознания воспринимается как смертельный поединок, «укрощение строптивой», и потусторонняя невеста способна умертвить (по одному из вариантов — удушить) жениха, если тот не совладает с нею, как это и случилось в финале новеллы.
Но особенно интересна специфическая интонация, с которой рассказчик сообщает нам, как предостерегал Альфонса: «…и я сказал какую-то глупость». Он откровенно стесняется и конфузится, а чуть ниже, стремясь оправдаться, вполне в духе классической культуры прибегает к авторитету знаменитых писателей (Монтеня и г-жи де Севинье), которые упоминали о женихах, постигнутых бессилием в брачную ночь. Такая стыдливость — характерное самочувствие культуры перед лицом культурно неприемлемого, перед лицом мифа, который она высказывает как бы против воли, сама того смущаясь. Неловкость, испытываемая рассказчиком, — это неловкость самого текста, вынужденного нарушить запрет, налагаемый культурой, в рамках которой он себя осознает.
Для самого же рассказчика его застенчивость связана с его двусмысленным положением по отношению к архаической культуре. Как специалист-археолог он к ней причастен и держится с нею запросто: например, бесцеремонно забирается на постамент Венеры и безнаказанно обнимает ее, разглядывая труднодоступную надпись на руке статуи (Альфонс за примерно такую же вольность поплатился жизнью…); более того, имя «Евтихий Мирон», начертанное на этой руке, — имя то ли скульптора, то ли другого человека, сделавшего посвящение богине, — является наполовину греческим переводом, наполовину анаграммой имени и фамилии самого автора новеллы, Проспера Мериме, с которым рассказчик имеет немало общих черт. В каком-то смысле он сам сотворил эту Венеру Илльскую — или, если угодно, «Венеру Илльскую», то есть новеллу; и в этом смысле архаическое значение происшедшего не должно быть ему чуждо. С другой же стороны, в рамках сюжета он держится отчужденно и никак не вмешивается в события, свидетелем которых становится. Так, в роковой вечер он отмахнулся от рассказа Альфонса о попытке отнять у Венеры кольцо — и тем самым оказался одним из виновников его судьбы; можно только гадать, как бы мог повернуться сюжет, если бы рассказчик принял всерьез слова злополучного жениха и, к примеру, дал бы себе труд ночью последить за статуей из окна своей комнаты… Такая бесстрастная отрешенность — характерная черта новейшей поэтики постромантизма — ведет к тому, что рассказчик оказывается сам исключен из готического сюжета, а вместо него столкнуться с Венерой пришлось недалекому Альфонсу де Пейрораду, неспособному послужить Посредником между древней и современной культурой. В результате конфликтующие стороны не могут вступить в диалог и бесплодно истребляют друг друга, их противоборство сводится к неподвижному противостоянию, которое завершается, в финале новеллы, замолканием всех трех языков, переплетавшихся в тексте:
После моего отъезда я не слышал, чтобы какие-нибудь новые данные пролили свет на это таинственное происшествие.
Здесь, можно сказать, признает себя побежденным прокурор, который как раз и искал «каких-нибудь новых данных» — улик. Следствие, а вместе с ним и вообще фактографический подход, обескураженно умолкли.
Господин де Пейрорад умер через несколько месяцев после смерти своего сына. Он завещал мне свои рукописи, которые я, может быть, когда-нибудь опубликую. Я не нашел среди них исследования о надписях на Венере.
Здесь важна не столько смерть Пейрорада как одного из свидетелей (выше уже было сказано, что свидетелем-то он в новелле вовсе и не является), сколько исчезновение его «исследования» о статуе. При всем убожестве его этимологических измышлений о том, что значат ее надписи, даже и такой текст должен был кануть в неизвестность, а вместе с ним — и весь символический язык, с помощью которого Пейрорад пытался осмыслить Венеру Илльскую.