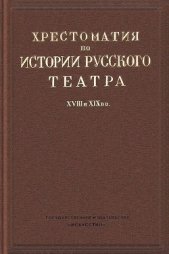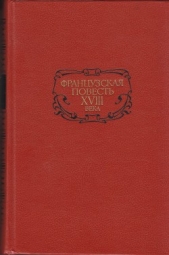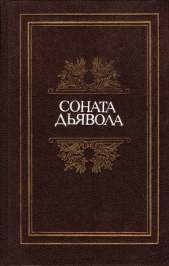INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков

INFERNALIANA. Французская готическая проза XVIII–XIX веков читать книгу онлайн
Обширный сборник страшной французской прозы дает довольно широкую панораму готической литературы. Его открывает неоднократно переводившийся и издававшийся Влюбленный дьявол Жака Казота, того самого, который знаменит своим пророчеством об ужасах Французской революции, а завершают две новеллы Ги де Мопассана. Среди авторов — как писатели, хорошо известные в России: Борель, Готье, Жерар де Нерваль, так и совсем неизвестные. Многие рассказы публикуются впервые. Хотелось бы обратить внимание читателей на два ранних произведения Бальзака, которые обычно теряются за его монументальными эпопеями.
Составитель книги и автор вступительной статьи — С. Зенкин, один из крупнейших на сегодняшний день знатоков французской литературы в России; и это может послужить гарантией качества издания.
Сборник включает лучшие готические произведения французской прозы прошлого века. Среди авторов: Ж. Казот, С. А. Берту, Ш. Нодье, П. Борель, Ш. Рабу, О. де Бальзак, Ж. де Нерваль, Т. Готье, П. Мериме, Ж. Барбе д’Оревильи, Ж. Буше де Перт, К. Виньон, О. Вилье де Лиль-Адан, Г. де Мопассан. Большую часть сборника составляют тексты, впервые переведенные на русский язык.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Несколько иначе «другая» мотивировка введена в повести Жака Буше де Перта «Паола». Здесь тоже фигурируют суеверные итальянцы, чьи рассказы окружают мрачным ореолом фигуру героини повести задолго до того, как начинают происходить связанные с нею странные сюжетные события; но, кроме этих внутриповествовательных факторов, есть еще и внешний, действующий на протяжении всего текста повести. Все ее главы снабжены эпиграфами — скорее всего, сочиненными самим автором повести, — где говорится о тех же самых призраках и вампирах, что и в основном тексте, но только в основном тексте говорится уклончиво, а в эпиграфах — напрямик:
Воздух, море и земля кишат невидимыми духами. Единственная цель их — вредить смертным. Если среди ваших знакомых кого-то сжигает таинственная лихорадка, если мертвенно-бледный страдалец постоянно озирается вокруг диким взором, не в силах остановить взгляд свой на чем-либо, зайдите в полночь в его спальню, а затем расскажите о том, что видели, коли хватит у вас на то мужества.
Таким образом, сам автор, перемежая «здравомыслящее» повествование «суеверными» эпиграфами, задает в своей повести два разных уровня условности: на одном из этих уровней привидения и оборотни могут фигурировать лишь как недостоверные иллюзии и легенды, на другом они присутствуют со всей несомненностью. Соприкосновение, взаимопереходы этих двух уровней как раз и создают неоднородность, искривление художественного пространства, проявляющиеся в эффекте фантастической неопределенности. Готика и фантастика не всегда совпадают: бывает, как мы только что видели при анализе «Мадемуазель де Марсан», готика без каких-либо сверхъестественных происшествий, а бывает и «светлая», полусказочная фантастика, не связанная с чувством готического ужаса; впрочем, такие случаи нас сейчас не занимают.
Сталкивая «официальные» формы сознания, социально признанные языки (дискурсы) культуры с формами отверженными, вытесненными наподобие бессознательных комплексов и архаических верований, готическая проза как бы осуществляет проверку культуры на прочность, на способность действенно противостоять собственному «подполью» или же усваивать, интегрировать его в рамках какой-то более широкой, более мудрой картины мира. Чтобы показать механизм такого испытания, часто дающего неутешительный результат, рассмотрим подробнее две новеллы, написанные в одном и том же 1837 году и справедливо причисляемые к шедеврам данного жанра, — «Инес де Лас Сьеррас» и «Венеру Илльскую».
Новелла Шарля Нодье отличается изящным симметричным построением, которое делает более наглядным конфликт сталкивающихся культурных позиций. Персонаж-рассказчик здесь фактически предстает в трех лицах: тройным свидетелем явления призрака Инес де Лас Сьеррас — буквально точной реализации испанских народных преданий, восходящих к мифологическому мышлению «дикого» народа, — становятся три французских офицера, из которых двое, симметрично обступающие третьего, представляют две противопоставленные друг другу культурные традиции. [8] Один из этих спутников главного героя, лейтенант Сержи, показан как образец романтического энтузиаста — «спиритуалиста» и мечтателя, страстного любителя музыки и искателя идеальной любви. Он словно пришел в новеллу из сказочной романтической фантастики, из таких сказок Гофмана, как «Золотой горшок» или «Принцесса Брамбилла», и именно в силу такой жанровой чужеродности обрисован с отстраненно-внешней, чуть пародийной точки зрения. Например, рассказчик с явной иронией сообщает, что в своих поисках любовного кумира Сержи отличался крайним непостоянством:
Последней ошибкой Сержи была довольно посредственная певичка из труппы Баскара, только что покинувшей Херону. Целых два дня артистка занимала высоты Олимпа. Двух дней оказалось достаточно, чтобы низвести ее оттуда до уровня самых обыкновенных смертных; Сержи более не помнил о ней.
Сержи, разумеется, сразу и с готовностью поверил в Инес, мгновенно влюбился в нее и, не удержи его товарищи, последовал бы за ней в неведомые подземелья замка; спустя несколько месяцев он погибает в бою со словами «Инес, иду к тебе». Таким образом, в этом персонаже в свернутом, редуцированном виде заключен весь сюжет о «потустороннем браке», в котором в свою очередь заново проигрывается легендарный прасюжет новеллы — история Инес и Гисмондо, где центральным эпизодом был (свадебный) пир с невестой-привидением, завершающийся смертью главного героя.
Если Сержи в потенции заключал в себе весь жанр романтической сказки, то его товарищ лейтенант Бутрэ вносит в новеллу дух гротескной пародии на житие святого. По сравнению с романтиком Сержи он как бы принадлежит предыдущей историко-культурной эпохе: нахватавшись, явно не из первых рук, верхов просветительского вольнодумства, он не верит ни в Бога, ни в черта («это так же верно, как то, что нет Бога») [9] и открещивается от всего идеального с помощью сакраментальных слов-заклинаний «фанатизм» и «предрассудки». Его неразвитый и неподвижный, механически действующий ум глубоко и безысходно потрясен случившимся в замке Гисмондо. В течение всей этой сцены Бутрэ лишь испускает стоны и вопли ужаса — он не может сказать ни слова, его мышление разладилось, и в итоге единственным выходом для него становится радикальная инверсия ценностей. То, что он раньше механически отвергал как порождение «веков невежества и рабства», он теперь столь же безоговорочно принимает, становясь набожным человеком и монахом. Так некогда святой Ремигий повелел франкскому королю Хлодвигу «поклониться тому, что сжигал, и сжечь то, чему поклонялся», — и такие внезапные религиозные обращения под действием чуда (кстати, действие новеллы происходит в ночь на Рождество) являются постоянным мотивом христианской агиографии. Только в случае Бутрэ обращение показано как смена масок, к каковым и сводится вся сущность этого героя — излюбленной в эстетике романтического гротеска фигуры механического человека, человека-куклы.
При всей их противоположности романтик Сержи и вольнодумец Бутрэ олицетворяют собой две равно «неблагонадежные» культурные позиции. Оба они одинаково быстро капитулируют перед очевидностью явления призрака, оба готовы некритически уверовать в потустороннюю природу увиденной ими женщины. Оба беззащитны перед властью исходящего от нее эротического обаяния, и их идеологическая симметрия даже отражается в телесной симметрии женского бюста:
Стыдливость, смешанная с жалостью к себе, заставила ее запахнуть расстегнутое платье (Инес показывала свой легендарный шрам. — С.З.), чтобы прикрыть одну грудь от испуганного взгляда Бутрэ, но при этом другая открылась глазам Сержи, волнение которого достигло крайней степени…
Позитивную инстанцию культуры олицетворяет собой друг и командир двух лейтенантов, драгунский капитан (рассказчик новеллы), который стойко сопротивляется давлению мифа, даже видя, как миф реализуется у него на глазах. Он не позволяет себя обаять и, чувствуя, во время пения Инес, что его существо «как бы разделилось на две половины», все же не поддается этому раздвоению: не теряя самообладания, он учиняет Инес форменный допрос, выясняя ее имя, а затем, даже получив как будто веские доказательства, что перед ним привидение, открыто и вежливо заявляет ей в глаза:
«…вы можете рассчитывать на нашу почтительность, скромность и гостеприимство; мы даже охотно согласимся признавать в вас Инес де Лас Сьеррас <…> но мы заверяем вас, что это признание, к которому обязывает учтивость, никак нельзя отнести за счет нашего легковерия».
Из-за непреклонной позиции капитана вся сцена явления призрака сводится к разговорам, перегружается словесами, и ее фантастический эффект ослабевает, «забалтывается» — он ведь всегда связан с затрудненностью речи, с ощущением некоего изъяна, поразившего язык. После ухода Инес капитан сразу затевает настоящую дискуссию об увиденном; категорически отказываясь признавать событие мифа, он скорее готов поверить в самые невероятные версии — в ловушку, подстроенную бандой разбойников, которым Инес якобы служила приманкой, в экстравагантный дебют провинциальной актрисы, испробовавшей на французах свой талант перевоплощения, в любую другую нелепицу. И соответственно во второй части новеллы — здесь тоже есть композиционная симметрия — он доискивается-таки до правды, только «правда» эта оказалась издевательски пустой и бессодержательной. «Подлинная» история полубезумной актрисы (в самом деле актрисы!), но одновременно и потомка старинного рода де Лас Сьеррас (в самом деле Инес!), которая в силу множества невероятных и драматичных случайностей очутилась в своем заброшенном родовом замке в ту рождественскую ночь, есть не что иное, как конспективно изложенный авантюрный роман со всеми сюжетными штампами, присущими такого рода литературе. Рассказчик, таким образом, сам также оказывается в итоге пришельцем из другого жанра — он тоже внутренне чужероден готическому инопространству, не может осознать себя в нем.