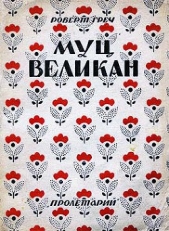Алракцитовое сердце. Том I (СИ)

Алракцитовое сердце. Том I (СИ) читать книгу онлайн
Столетиями ничего не происходит в лесной глуши Зареченского плоскогорья. В "большом мире" сменяют друг друга князья и короли, рушатся государства - но люди в Медвежьем Спокоище живут, как прежде, жизнью непростой, но привычной, пока однажды война не стучится в двери ружейными прикладами. И быть бы большой беде - но следом встают на пороге обретшие плоть и кровь старые сказки.
Деяну Химжичу, уже не чаявшему когда-нибудь покинуть родной дом и жившему лишь чужими историями, предстоит вновь ощутить землю двумя ногами, отправиться в путь и самому узнать, где заканчивается правда и начинается легенда. Вот только он не очень-то этому рад...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Чародей говорил со странной поспешностью, будто боялся, что его перебьют. Деян подумал мельком, что тот, должно быть, давно искал повод, ждал вопроса, чтобы рассказать о себе, о том, что он – не чудовище, не призрак из старой сказки; чтобы вернуть в настоящий момент память о прошлом, кроме которого у него ничего не осталось.
– Род Ригичей восходит к первым владыкам срединных земель Алракьера. В числе моих дальних предков – два министра и без счету наместных императорских чародеев, не снискавших большой славы, но привнесших в родовую козну много золота, – сказал Голем. – Отец в своем поколении был единственным законным наследником. Дед – старый князь Микел Ригич – никогда не допустил бы его брака с бадэйкой, небогатой и не наделенной особыми талантами, но деда не стало еще за три года до того. В юности дед тайно объездил полсвета с тайными императорскими поручениями. Он слыл мастером по части разной коварной волшбы и большим охотником до женщин, притом в этом его способности к скрытности давали сбой: слишком уж он был ненасытен и неразборчив в связях. Знатные замужние дамы и невинные девчонки, дворовые девки, крестьянки – дед не пропускал ни одной юбки. Он прожил на свете два века и протянул бы еще столько же, но, как поговаривали, бабке надоели его интрижки, и однажды она помогла ему не проснуться. А отец имел тому доказательства, и потому вертел бабкой как хотел. Так или иначе, не дотянув трех лет до двухвекового юбилея, князь Микел Ригич скончался в своей постели: я видел только его портрет в фамильной галерее. И рассказываю тебе о нем лишь потому, что лицом и сложением ты весьма похож на Микела в молодые годы; когда впервые тебя увидел – признаться, подумал, что ты мне мерещишься.
– Но дед твой Господь знает когда землю топтал… Как такое может быть? – недоуменно спросил Деян.
– Да как угодно. – Голем пожал плечами. – Могло случайно так выйти: я даже на Дарбанте встречал людей, схожих с моими знакомцами, никогда не покидавшими Алракьера. Но больше верится в то, что дед – известнвый любитель после охоты или дальней прогулки заночевать вне замковых стен – имел плотскую связь с какой-нибудь твоей пра-пращуркой. И способности свои, какие-никакие, ты от него по крови унаследовал. А мы с тобой, получается, – дальняя родня.
– Что-то сомнительно. – Деян наклонился вперед, пристально вглядываясь в лицо чародея и не находя в нем никакого, даже самого незначительного сходства с собой или с братьями. – Путаешь ты меня, «родственник».
– Характер у деда, я слышал, тоже был не из легких; это у нас семейное, – усмехнулся Голем. – Может, и совпадение простое – не знаю. Столько лет прошло, столько поколений в твоей семье сменилось, что не выяснишь ничего. Да и не важно, наверное.
– Не важно. – Деян согласно кивнул. – Я в семье младший, о прадедах и прабабках мало что слышал: как-то не было повода расспрашивать.
– Зато я о своем наслышан: что бы я, малолетний несмышленыш, ни делал, мне всегда ставили деда в пример – или попрекали его «дурной кровью»… Отец с матерью сыграли свадьбу в столице и жили сперва там. Вернулись ненадолго в родовое гнездо перед тем, как родился я, а после снова укатили и бывали в Старом Роге только наездами раз в год: до восьми лет меня воспитывала бабка.
– Старый Рог?
– Так называлось место, которое ваш староста теперь почитает за хлев. Кроме укрепленого замка, там были еще постройки. Но от них ничего не осталось. Бабка была со мной не слишком-то ласкова: я считал тогда, что мне живется несладко. Как же я ошибался! Я тогда и представить бы не смог – как. – Голем заговорил сухо и отрывисто, голос его будто выцвел. – Однажды вернулся отец и сказал: мать убили. В действительности, как я узнал намного позже, она погибла, упав с лошади: та понесла и сбросила ее прямо на камни. Так и неизвестным осталось, обезумело ли животное из-за чьей-то волшбы или же то был несчастный случай. Я склоняюсь к последнему, тем паче мать плохо ездила верхом; однако отец считал иначе. Не имея никаких доказательств, он пытался добиться ареста двух своих давних соперников в борьбе за благосклонность Его Императорского Величества, а когда не преуспел – в гневе подал в отставку и отправился домой. На следующий день после своего возвращения отец с бабкой заперся в кабинете при библиотеке. Бабка всегда недолюбливала мать – за недостаточно знатное происхождение, за «надутый вид» и непочтительность, – потому случившимся опечалена не была нисколько и, могу предположить, что-то высказала отцу. Они ссорились – сильно ссорились, брань разносилась по всему этажу. Потом все стихло; а спустя четверть часа бабку вынесли вперед ногами. Замковый лекарь написал бумагу, что бабку со злости хватил удар, она упала и, уже мертвая, расшиблась; но никто в это, конечно, не верил… Думаю, отец убил ее не намеренно, без расчета: в ярости он совершенно терял себя… Через день лекарь, знавший слишком много, насмерть подавился куриной косточкой: тут уж отец действовал хладнокровно.
Деян с особым тщанием прожевал кусок птичьего крыла – недосоленный, подгоревший, со множеством мелких размякших костей – и отложил остаток в миску. Совсем не таким представлялось детство княжеских отпрысков: беззаботным, веселым, счастливым… Голем же говорил о несчастьях и смертях, как у всех. И, кроме того, о вещах невообразимых, жутких. Не все благополучно складывалось в семьях Орыжи: и ссорились, и расходились ночевать по чужим дворам, и поколачивали жен мужья. Но чтоб родители надолго бросили дите без пригляда, чтоб сын убил мать – дико даже слышать было о таком.
– Я для своих восьми лет был не глуп, но и не сказать, чтоб смышлен. – Губы чародея тронула кривая улыбка. – Обрушившиеся в считанные дни несчастия ввергли мои чувства в полный беспорядок. Я не мог спать: боялся каждого шороха в замке, боялся отца, боялся, что моя мертвая бабка встанет с погребального ложа и явится за мной… На помин бабки отец, терзаемый совестью или спеша притупить людскую память, приказал открыть погреба и выставил челяди двадцать бочонков крепкого эля. Почти все перепились до беспамятства, а кто не пил, тот все равно осоловел от хмельных паров и неумолчного галдежа … Когда няньки, приставленные ко мне отцом, уснули, я спрыгнул из окна на кучу сена и сбежал. Стояло необыкновенно жаркое лето. Три дня я прятался в лесу, пил сырую воду, жевал папоротниковые корневища, от которых постоянно крутило живот. Особой цели у моего побега не было: я просто не хотел, не мог оставаться дома; но быстро понял, что бродяжничество мне не по зубам. Обессилев совсем, вышел к людям в одной из деревень, сошелся с ребятней, заночевал с ними в старом коровнике… Там-то меня отцовы люди и нашли. Отвезли назад в замок, где меня отмыли, накормили досыта. И выпороли, конечно, как дурную скотину, но я понимал, что легко отделался: отец за время, что меня искали, успел подостыть. После всего я спал как убитый и мертвой бабки бояться перестал. Еще дней десять все в моей жизни шло хорошо. А на одиннадцатый со мной приключилась тяжелая лихорадка… Она продолжалась ночь и полдня: к вечеру жар спал, но начались сильные боли в спине и стали отниматься ноги. К утру меня парализовало. Я мог лишь говорить кое-как да немного шевелить правой рукой. Можешь себе представить, каково это – вот так, почти в одночасье, оказаться прикованным к постели.
Деян кивнул.
– Но вряд ли ты когда-нибудь слышал о недуге, что меня поразил: он редок в этих холодных краях, а когда все же случается – обыкновенно сразу приводит к смерти, – сказал Голем. – Но кровь Ригичей сильна: я остался жив. На хавбагских Островах болезнь эту – а случается она от питья испорченной гниением и нечистотами воды – называют «хромой хворью»: там умеют помогать таким больным, но хромота у многих остается, а часто – и более серьезные увечья. Помог хавбагский лекарь и мне – много лет спустя, когда я уже сам худо-бедно научился ковылять по коридорам и держаться в седле. А тогда я оказался совершенно беспомощен… – Голем вздохнул. – Иногда я думаю: отец повредился умом еще раньше, еще когда погибла моя мать; когда же меня разбил паралич – помешательство просто стало всем очевидным. В моей болезни он видел результат покушения, какого-то яда, а рядом больше не было лекаря, чтобы его разубедить. Шпионы и убийцы теперь мерещились отцу повсюду, за каждой занавеской. Он казнил всякого, кто казался ему подозрительным; не просто казнил – пытал, и бедняги, чтобы избавиться от мучений, наговаривали друг на друга. Крики доносились до моих ушей через окно. Я молил провидение, чтобы мне пореже приходилось их слышать, и оно жестоко подшутило надо мной: вскоре отец запер меня внизу, в казематах. Отравителя он так и не нашел и переменил мнение: теперь он винил во всем насланное врагами мудреное проклятье и вбил себе в голову, что толща земли способна ослабить действие волшбы; в оправдание ему могу сказать только, что, хотя в моем случае он заблуждался, такое действительно возможно. Под замком находились обширные подземелья: усыпальница, погреба, тренировочные залы и пустовавшая тюрьма – так как за любую провинность отец теперь отправлял на дыбу сразу. Мне устроили комнату в одной из бывших камер: там, после починки стен, стало тепло и почти сухо, и там не было крыс. Но тюрьма оставалась тюрьмой: темной, тесной, провонявшей страданием. У входа всегда дежурили двое стражников, но ключ от двери поначалу был только у отца. Он, можешь себе представить, по-своему любил меня. И, подозревая во злодействе всех и каждого, пытался сам за мной ухаживать. – Голема передернуло. – Небеса мне в свидетели, Деян, – страшнее его заботы были только его загулы. Временами он, напуганный до смерти какой-нибудь безделицей, которую считал дурным предзнаменованием, напивался до беспамятства и не приходил; случалось, он отсутствовал подолгу. Я считал плиты на потолке, мучаясь голодом и жаждой, и гадал – явится он когда-нибудь снова или я так и помру, лежа в собственных испражнениях… Поначалу в подземелье я потерял счет времени; рассудок мой тоже, должно быть, помутился, или же то сказывались последствия болезни. Я только плакал и скулил, как щенок; да я и был тогда еще щенком, наивным и беззубым. Но кошмар длился и длился, и постепенно я свыкся с ним: со своим бессилием, с тесной камерой, со смертью бабки и матери, с тем, что мой добрый отец превратился в озлобленного незнакомца с почерневшим от горя лицом и стал моим тюремщиком… Другой жизни у меня не было – и я принял эту. А со временем задумался: не могу ли я как-то улучшить свое положение? Иногда чувствительность ненадолго возвращалась в мои парализованные конечности: я ощущал какие-то покалывания, чесотку, слабые боли. Часами я твердил себе, что на самом деле могу двигаться; представлял, как я шевелю одним пальцем, другим, всей кистью… Огромным напряжением воли я сумел вновь подчинить себе обе руки и после долгих тренировок овладеть ими ненамного хуже, чем прежде. Отец, вне себя от счастья, заказал для меня у кузнеца специальное кресло-каталку – как будто в моей тюрьме от нее было много толку! Выпускать он меня не собирался: наоброт, мои успехи убедили его в том, что стены камеры ослабляют действие проклятья. Двумя руками я мог с горем пополам обслуживать сам себя, но все остальное шло по-прежнему: ноги отказывались служить мне, и я был заперт: в своем больном теле, комнатушке-камере, в замке – и не имел надежды получить свободу: моя первая победа лишь усугубила мое положение. – Голем прокашлялся. – Но больше всего меня в те дни тяготило одиночество. Отец в своем безумии был отвратительным собеседником, а стражникам не позволялось даже заговаривать со мной. Старый сержант, служивший еще деду, как-то раз пожалел меня и отдал свой ужин через решетку. Кружку эля и лепешка с сыром: в жизни не пробовал ничего вкуснее. Кто-то прослышал о том и донес. Сержанта разорвали лошадьми за намерение в будущем меня «отравить»: отец возбужденно, сверкая глазами, рассказывал, как он раскрыл заговор… Другой раз, когда отец особенно долго не приходил, один из стражников, после смены караула, рискнул попытаться позвать его: отец, только завидев бедолагу на пороге своего кабинета, заподозрил, что тот замышляет недоброе, и обратил в горстку пепла. Зато я получил свою кружку воды и миску супа. – У Голема вырвался горький смешок. – Смерть часто находила тех, кто пытался помочь мне; и тогда, и потом… Зряшная, дурная смерть. Небеса мне в свидетели: мне очень не хотелось бы, чтоб ты пополнил список.