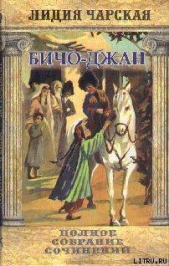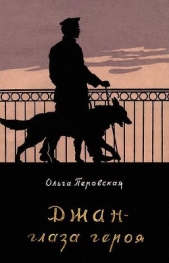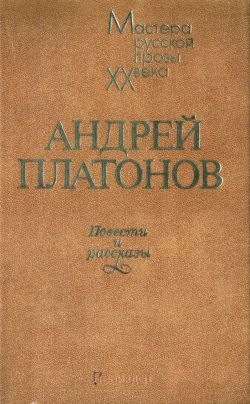Укус ангела

Укус ангела читать книгу онлайн
«Укус ангела» — огромный концлагерь, в котором бесправными арбайтерами трудятся Павич и Маркес, Кундера и Филип Дик, Толкин и Белый…
«Укус ангела» — агрессивная литературно-военная доктрина, программа культурной реконкисты, основанная на пренебрежении всеми традиционными западными ценностями… Унижение Европы для русской словесности беспрецедентное…
Как этот роман будет сосуществовать со всеми прочими текстами русской литературы? Абсолютно непонятно.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За ипподромом, полускрытая густыми купами платанов, точно колония бирюзовых черепах, оседлавших пригорок, сияла грудой панцирей мечеть Ахмеда. Таня оказалась здесь по прихоти. Губернаторский дворец стоял на берегу Босфора, — бывший султанский Долма-багче, на крыше которого Иван устроил голубятню и вместе с денщиком Прохором гонял там по воскресеньям пернатую свору, — но раз в неделю хозяйка дворца садилась в паланкин и ревностно осматривала владения. То поднималась на Галатскую башню, служившую Царьграду чем-то вроде пожарной каланчи, то забиралась в трущобы крикливых шпаниолов, то кружила мощёными улицами Фанары, средь каменных домов, которые видали василевсов, то направлялась к акведуку Адриана, сплошь заросшему плющом, диким виноградом и прочей ползучей чепухой, однако до сих пор исправно гнавшему акву в городские фонтаны. Сегодня Таня направлялась к царьградскому Акрополю, чьё место давно уже заступили, сокрытые от любопытных глаз стенами с островерхими башнями, былой султанский Сераль и чертоги Топ Капу. Холма ещё не было видно, но вдалеке, в голубом небе висел запущенный с надвратной стены Топ Капу серебряный аэростат. Под ним колебалось в струях этезий огромное полотнище с портретом Ивана Некитаева. Гесперия выбирала своего консула.
При виде брата на босфорском небе, Таня изменила и без того не слишком ясное намерение.
— Ступайте к Галатскому мосту, на пристань, — велела она носильщикам, и паланкин плавно повернул влево.
Она решила отправиться к Принцевым островам, где в это время Иван погружался в батисфере в глубины Мраморного моря, чтобы, подобно великому Александру, воочию увидеть то, о чём знал лишь понаслышке, от поэта:
В бухте сновали небольшие пароходы, трамвайчики на воздушной подошве и остроносые каики. Два крупных щита на пристани вновь явили Тане мужественную физиономию брата, а надписи на них до отпечатков пальцев выдали Петрушину руку:
Не прошло и десяти минут как прогулочный пароходик, куда погрузился паланкин со свитой, конём, спешившимся Сапожком и его пардусом, до столбняка напугавшим некстати подвернувшуюся корабельную шавку, как-то разом ухнул в даль, зажатый между двумя синими хлябями.
До места добрались быстро. С борта полувоенной-полунаучной посудины, куда, оставив носильщиков на пароходике, поднялась с Нестором Таня, море от пены действительно казалось мраморным. На палубе, помимо генерала в шортах и нескольких загорелых спецов, возившихся у подвешенного к лебёдке глубоководного яйца, в шезлонге под тентом сидел Легкоступов. Некитаев сделал едва заметный знак и подле Тани ниоткуда возник Прохор с плетёным креслом на голове.
— Представь себе, — озорно подал из-под тента голос Петруша, — море бунтует! Отказывается повиноваться! Оно не хочет менять царя морского на Священного Императора!
Усаживаясь в низвергнутое с головы денщика кресло, Таня посмотрела на Ивана — генерал насуплено улыбался.
— Расскажи-ка лучше, как это вяжется с твоей райской идеологией, — Некитаев достал из портсигара папиросу, — с твоим Новым Ирием?
Таня знала, что Петруша давно уже готовил своего рода философическое обоснование грядущего воцарения Героя, сочинял сценарий вселенской мистерии, где оставлял за собой роль медиума, мистагога — не блистательного вершителя судеб, но его поводыря, хозяина самого мистического времени. Словно бы в пику своему деревянному родителю, узревшему под маской жизни лишь отвратительную ряшку преисподней, Легкоступов-младший измыслил образ земного рая. В общем контуре идея Петрушиного империализма — Нового Ирия — сводилась к следующему: Император — фигура божественной природы, стоящая посреди подвластной ему сакрализованной вселенной, вселенной-зеркала, в котором не отражается ничего, кроме самого Императора, соли земли и неба. Ни над собой, ни под собой, ни тем более окрест Император не имеет никакого высшего метафизического принципа, с которым он вынужден был бы духовно считаться, а стало быть, он абсолютно свободен и неотделим от Бога. Бог внутри него. Вне его Бога нет. Вокруг существует только отражение Священного Императора. Следовательно, держава его по определению является синонимом рая — ведь она есть овеществлённое продолжение его воли, её «большое тело». Само собой, в реальном воплощении подобное мировоззрение может быть сориентировано только монархически; вместе с тем оно будет тяготеть к пространственному распространению власти монарха через имперскую экспансию, через включение максимального объёма вселенского пространства в подчинённую Императору сферу, в сферу отражения его личности, тем самым чудесно преображая заросли подзаборной крапивы в рай, в область восстановленного первопорядка. Словом, исполать великому делу иерархии.
Во всём этом легко прочитывалась давняя гностическая традиция — традиция эзотеризма, внутренней тайной доктрины, затаившейся в недрах практически любого учения. Поэтому политическая область приложения Петрушиных воззрений, была лишь частью его замысла. Просто без глобальной политической победы невозможно было масштабно и вчистую переписать матрицу мира. Что подразумевал под этим Легкоступов? А вот что: человек с детства живёт в той действительности, которую ему надиктовали няньки и которую он продолжает механически ежеминутно воспроизводить в себе самом. Ведь известно — на свет являются только те боги, которым молятся. Надо разбить прежнюю матрицу, надо поменять текст мира, спроецировав его новый образ из области чистого умозрения, из области религии, мистицизма и герметических наук вовне, и тем самым изменить мир, вызвав из кажущегося небытия силы потаённые и невиданные, силы прекрасные и грозные. И тут за делом иерархии в зенит войдёт дело Шамбалы…
— Море не хочет быть раем. — Благодаря своей полноте Легкоступов казался вялым, но Таня знала, что сейчас мозг его клокотал, точно в него всадили кипятильник. — Море хочет остаться сомнительным творением. Но в нём пробуждается роковая мощь — ведь через свой протест оно отличает тебя от остальных людишек.
— Ты почти угадал, — усмехнулся Иван. — Вода нижняя не принимает меня, потому что я сделан из глины, замешенной на воде верхней.
— Ваше превосходительство, можно погружаться, — доложил главный спец Некитаеву, на котором были только шорты, да и те без знаков отличия. — Проверили — всё в порядке. Ума не приложу, что она блажит? — Спец похлопал ладонью тугой бок батисферы. — На всякий случай удвоили балласт.
Таня с Легкоступовым стояли у борта и смотрели, как спущенное на лебёдке научное яйцо тяжко, словно в мёд, входило в море. Нестор, заняв под тентом Петрушино место, исходя слюной грыз какую-то экзотическую турецкую сласть. Пардус с глуповатым видом катал по палубе закупоренную бутылку кваса.
— Долго же ты его убалтывал поиграть в консулы. — Таня улыбнулась поглотившим батисферу водам.
— Я и не думал его убалтывать, — сказал Пётр. — Знание, выросшее из слов, ненадёжно. Оно шутит с человеком скверные шутки — одаривает иллюзией осведомлённости, но когда тебе доведётся обернуться, чтобы вновь взглянуть на мир, это знание неизбежно предаст тебя, и ты опять увидишь мир прежними глазами, без всякого просветления. — Легкоступов козырьком выставил над глазами ладонь. — Иван не слушает слов, он совершает поступки. Видишь ли, ему удалось выстоять, не склонить голову перед разумом и сохранить себя целым. Он изначально принял свою судьбу в совершенном смирении, какой бы она ему тогда ни казалась. Однако смирение солдата и смирение нищеброда, кланяющегося всему, что выше его, и топчущего всё, что его ниже, — абсолютно разные вещи. А Иван — лучший из солдат. Он как будто видит себя мёртвым, и потому ему нечего терять — самое худшее с ним уже случилось. Он всегда спокоен и ясен. Понимаешь? Иван в смирении принимает себя таким, каков он есть, и не ищет в этом повода для скорби. «Иду на вы». Он — воплощённый демарш, живой вызов. Всем и вся. — Легкоступов на миг задумался. — Его не нужно было убалтывать. Он просто ждал знамения.