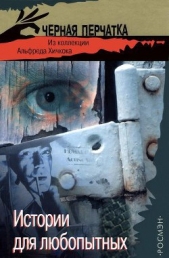Вечный Грюнвальд (ЛП)

Вечный Грюнвальд (ЛП) читать книгу онлайн
Под Грюнвальдом погибает один из рыцарей ордена — сын польского короля. Он умирает, но жить и умирать ему предстоит еще много раз. Смерть — это только начало Вечного Грюнвальда.
Все начинается с изнасилования королём Казимиром четырнадцатилетней дочери Нюрнбергского купца. К тому времени, когда королевский бастард появляется на свет, отец его уже мертв. Пашко живет в публичном доме, куда попала его мать. Когда умирает и она, все имущество парня состоит из маленького ножа, уже запятнанного кровью, и платка с королевским вензелем «К» — единственный символ его происхождения. Пашко отправляется в путь, который в итоге приведет его на поля Грюнвальда.
Твардох, проводя своего героя через разные времена, реалии и альтернативные воплощения, представляет свою версию польско-германского антагонизма. «Вечный Грюнвальд» — темная, кровавая и грязная история, в которой автор разрушает стереотипы рыцарской этики и романтического идеализма. Роман предназначен только для взрослых.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И глядел я на наших рыцарей: как гордо, как красиво они выглядят, совершенно иные люди. Ну что общего может быть между рыцарем, что живет столь интенсивно, с той грязной бабой, что босиком убегает из своей горящей деревни?
И что общего такой рыцарь может иметь со мной? Я сажусь на коня, они, возможно, еще того не знают, наверняка этого не знают, в конце концов, на мне белый плащ с крестом, и меч в руке, и доспех, и "фон" перед фальшивой фамилией, так что не знают они, что я им не ровня; но они чувствуют это.
И точно так же, много лет спустя, когда польский рейд вонзается в Пруссию, как прекрасно выглядят польские рыцари, на танцующих дестриэ, мечущиеся среди горящих домов, счастливые, пьяные пивом и победой, обрызганные кровью и размахивающие мечами. И насколько же несчастны тогда наши пруссаки, как похожи они на меня.
Так это все я тогда видел, так на эту картинку поглядел бы каждый, кто жил в настоящие времена моего истинного в-миру-пребывания: с благосклонностью к победному, прекрасному рыцарю и с отвращением к бегущим в лес грязным и босым простолюдинам. Вы, конечно же, глядите иначе, вас так выдрессировали, что жертва всегда кажется вам морально лучшей, чем мучитель, она всегда невиновна, но в реальности все ведь обстоит иначе. Несправедливая смерть спадает, как ей пожелается: на хороших и на плохих, на виноватых и невиноватых. А если говорите, что это Господний Бог карает преждевременно, то почему же он карает невинных? А почему же палачи доживают свои годы в тепле, хлопая себя по жирным брюхам? Никакой кары и нет, ни в этом свете, ни после смерти — после смерти имеется лишь небытие, и только лишь потом, когда истекут мириады часов и веков, потом восстают из мертвых, но призванными к псевдо-жизни не Господним Богом и не в замечательном теле, но жестоким всеБожком, ради извечного умирания, в не-телах, что представляют собой слепки всего страдания, боли, гадости, злости наших истинных тел из истинного в-миру-пребывания.
И в этом извечном умирании гляжу я, как все это изменяется, как рафинируется рыцарственность, как люди меча становятся людьми сабли или шпаги; то есть помещиками и людьми двор, при-дворными, как из воинов становятся они офицерами, и как шлифуются рыцарские обычаи. Как рыцарская шумливость и надменность превращаются в скромность и кажущееся уменьшение самих себя, которые являются лишь более высокой формой гордыни. Как викторианский джентльмен, когда он с изысканной вежливостью обращается к продавцу газет или билетеру, либо возчику кэба, или же к собственному камердинеру — с вежливостью, являющейся наивысшим оскорблением, с учтивостью, очерчивающей границы огромной, непреодолимой дистанции, которая отделяет джентльмена от простолюдина. Эта дистанция настолько велика, что ее уже не нужно подтверждать, давая хаму по морде, или же восхождением по его спине на лошадь. Посредством этой вот изысканной вежливости подчеркивается очевидность этого разделения. Это как опытный шахматист в товарищеской игре отдает слабому противнику несколько фигур и подсказывает ему наилучшие ходы.
Так что происходит неустанный торг: раз когда-то покрывал оружие золотой насечкой, носил пышные перья и яркие атласы, то потом носит одежду серую и скромную, только заказывает ее у портных-художников и платит за эту одежду больше, чем работник с фабрики тратит за год на еду для собственных детей. Шерсть уже не может быть обычной шерстью, шелк галстука уже не может быть обычным шелком, вот рафинирование такой гордыни, это уже гордыня по отношению к богачам! И ведь одежда эта ни в каком-либо смысле не лучше от синего комбинезона, который носит работник — она не лучше греет, ни лучше защищает тело, поскольку ведь служит не для этого, а служит она только лишь для того, чтобы доказать, как много средств человек, одетый в данный костюм, способен пустить на ветер.
И как раз таким вот образом презрение к босым и грязным выпирает покровительственность, только ведь это еще не конец. В один прекрасный момент критическая масса взрывается. В один прекрасный момент французская королева открывает, что у ее горничной столько же пальцев, сколько и у нее самой, и в результате эта покровительственность выпирается чувством вины и завистью, и ненавистью к собственному классу, к самим себе, но по их согнутым классовыми угрызениями совести спинам уже карабкаются новые, те самые, которые с охотой почувствуют новое презрение и новое превосходство.
И только лишь такие, как я, вечно тоскуют, поглядывают наверх, на тех, кого признают настоящими людьми — и в то же самое время они не в состоянии докарабкаться до них, сравниться с ними — но не по причине объективных помех, поскольку такие не существуют. Даже в самых окаменелых мирах рабы становились императорами, незаконнорожденные — наследниками трона, а проститутки — королевами. Достаточно хотеть. Ведь это не общество, не совместный мир является наибольшей помехой; наибольшую помеху каждый носит в себе самом, в средине.
Это мое собственное презрение к самому себе, и моя собственная ненависть к самому себе. В истинном в-миру-пребывании, отделю, никто не глядел на меня с такой антипатией, с которой я сам на себя глядел. И иным хватило бы, чтобы усесться в доспехах на дестриэ, чтобы носить на боку меч, белый плащ с черным крестом — и был я уже тогда для них тем, кем всегда хотел стать, настоящим человеком, одним из избранных сотен, военной и духовной элитой, властью Пруссии. Но в собственных глазах — все так же я оставался никем. Недостойным узурпатором.
И имеются два Извечных Грюнвальда, которые я разделяю: в одном аантропные опоясанные рыцари — это истинные поляки, и, соответственно, немцы, ведь человек не может быть только лишь поляком или немцем, уж слишком много общего есть у людей поляков и людей немцев, ведь если сорвать с них мундиры и знаки отличия, когда они спят, когда сношаются, когда срут, когда потеют, ничем они не отличаются, и могут иметь совместных, таких как я, немец с полькой и поляк с немкой, что звучит, признайтесь, чуть ли не как святотатство, ведь как такое возможно, чтобы к польской дырке подходит немецкий перец и наоборот, а это уже святотатство, так что кнехты там подобны коровам или собакам, ведь собаки понимают команды только на одном языке, а ведь никто не приписывает им национальности, истинной национальностью обладают лишь аантропы, а вот кнехты — уже нет.
Но имеется и такая линия Извечного Грюнвальда, где кнехт — это поляк, а самочка в лебенсборне — немка, и что-то соединяет их с аантропами, какая-то общность объединяет их с аантропами, в которых содержится полнота национальности, и там аантропы для кнехтов — словно не владельцы скотины, но словно старшие братья; и как раз там, в том Извечном Грюнвальде, где аантропы — это наши братья, в том самом Извечном Грюнвальде вспыхивают крестьянские бунты. Ради Дела.
И я стою во главе одного из таких бунтов; уже очень давно, поколения назад, научились мы, как обманывать Мать Польшу, ну а аантропы все так же этого не видят, аантропов это не интересует, аантропы только лишь чувствуют Приказ, аантропы мечтают лишь о том, чтобы удовлетворить неудовлетворенную похоть Матери Польши, а мы, точно так же разрываемые приказами, из тайных листовок учимся затыкать носы и заслонять кожу; мы встречаемся в тайных революционных тройках, учимся говорить так, чтобы Мать Польша нас не слышала, и открываем то, что успокоить телесное желание можно не только в мокром, теплом лоне Матери Польши, но желанным может стать тело иного неизмененного, и это телесное желание можно удовлетворить. Когда же посредством педерастии мы освобождаемся от наиболее серьезных пут Матери Польши, и когда мы перестаем быть ее невольниками, тогда начинаем мы устраивать заговоры. А Мать Польша по отношению к нашим замыслам беспомощна, шестьсот поколений училось, она же существовала неизменившаяся и неизменная, и мы узнали тропы в ее теле, и научились затыкать ей уши, заслонять ей глаза, выскальзывать из ее ладоней, и обманывать ее рецепторы.