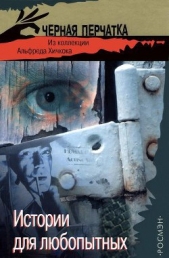Вечный Грюнвальд (ЛП)

Вечный Грюнвальд (ЛП) читать книгу онлайн
Под Грюнвальдом погибает один из рыцарей ордена — сын польского короля. Он умирает, но жить и умирать ему предстоит еще много раз. Смерть — это только начало Вечного Грюнвальда.
Все начинается с изнасилования королём Казимиром четырнадцатилетней дочери Нюрнбергского купца. К тому времени, когда королевский бастард появляется на свет, отец его уже мертв. Пашко живет в публичном доме, куда попала его мать. Когда умирает и она, все имущество парня состоит из маленького ножа, уже запятнанного кровью, и платка с королевским вензелем «К» — единственный символ его происхождения. Пашко отправляется в путь, который в итоге приведет его на поля Грюнвальда.
Твардох, проводя своего героя через разные времена, реалии и альтернативные воплощения, представляет свою версию польско-германского антагонизма. «Вечный Грюнвальд» — темная, кровавая и грязная история, в которой автор разрушает стереотипы рыцарской этики и романтического идеализма. Роман предназначен только для взрослых.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Mein dienfit ewer liebe, ответил я. Что означало: "служу вашей милости". Конечно же, странно это звучало, учитывая то, что только что я Дёбрингера убил, но именно так привык я ему отвечать, и аортому-то так ответил, тем более, что собирался полностью выполнить то, чего тот от меня требовал.
Дёбрингер сунул руку под рубаху, я замер: неужто он пытается вытащить какой-нибудь нож, но нет, учитель вытащил лишь ключик, привязанный к ремешку, что висел у него на шее. Подать его мне он не успел — скончался.
Я же взял ключик, отпер сундук и забрал все то, о чем говорил Дёбрингер, и таким вот образом сделался человеком, владеющим деньгами, впервые в жизни. Сто пражских грошей — это еще не было состоянием, но к ним можно было добавить гнедого подъездка, валаха по кличке Аллиум или же просто Чеснок, как его сразу же по-польски и начал звать; еще два самых лучших меча из тех, что нашел я в фехтовальной школе, пергамент и чернила. Но, честное слово, пергамент и чернила я собирался использовать для исполнения желания мейстера Дёбрингера, а не на собственные потребности. А сто пражских грошей, это столько же, что и пара не самых исключительных подъездков, таких как мой — терерь уже мой, поскольку я его себе своровал. Или же три вола. Но и не было это крупным состоянием, чтобы сделаться господином, для того мне нужно было иметь деревню, а деревня-весь в Польше, причем, из недорогих, стоила, самое малое, с десять тысяч грошей.
А если бы пожелал я купить себе признание за того, кем должен был быть, если бы пожелал я купить себе право стать опоясанным рыцарем, тут, наверняка, и сотни тысяч могло бы не хватить.
Так что не делали меня эти деньги богатым, зато, пускай на какое-то время, делали меня человеком свободным. И далее ни с кем и ни с чем не связанным, но свободным в том значении, какое могли бы применить и вы, в вашей ветви истории. Я убил Дёбрингера, и вдруг уже не имел над собой хозяина. Не был я и нищим, хозяином которого становится каждый прохожий, равно как и всякий случайный человек может стать хозяином духны, ищущей покровителя на улице.
Короче, упаковал я пергамент и чернила, упаковал мечи, то есть, сложил их все три вместе и обернул двумя овечьими шкурами, связал веревкой в удобный сверток, чтобы не слишком-то бросаться в глаза на тракте. Пара отличных, принадлежавших Дёбрингеру, и один мой, наиважнейший, тот самый, который сопровождал меня всю жизнь; мой меч, полученный мною от учителя, когда признал мастер, что я меча уже достоин.
Но в дороге меч только мешает, так что припоясал я палаш, самый обычный, с ножевой рукоятью из двух роговых пластин, зато с солидной крестовиной, и всю дорогу несчастья меня обходили, так что палаш даже не пришлось вынимать из ножен.
Все свое имущество, старое и новое — уворованное, приторочил я к седлу и сбежал из Норемберка.
Ушел я из города Норемберка, ушел из Рейха, ушел от имперцев в Силезию. Спал я в чащобах, в дубовых и буковых лесах, и ехал я довольно быстро.
И размышлял я о том, как хорошо будет оказаться наконец среди своих, потому что поляков тогда считал я своими, ибо слабо их помнил по своему детству в Кракове, и радовался тому, что снова смогу говорить по-польски, только быстро должен был я убедиться, что нигде я не у себя, что польская нация не желает меня точно так же, как и немецкая.
И так вот я, в течение всего истинного в-миру-пребывания — бежал я от поляков к немцам, а от немцев к полякам, и никто меня не желал, нигде не был я желанным. И в истинном в-миру-пребывании было это наименьшей болью, в истинном в-миру-пребывании не сильно-то я понимал, кто есть поляк, а кто — немец, гораздо больше считалось то, кто является торговцем, а кто — деревенский мужик или человек без связей, словно я, то ли хам, то ли пан.
Но, естественно, уже тогда существовало "soczewica koło miele młyn" [39], которым рыцари моего деда по отцу, то есть короля Владислава, после бунта войгта [40] Альберта в тысяча триста двенадцатом году испытывали, ктио тут свой, а кто немец, после чего тех, кто правильно произнести эти слова не мог, рубили эти рыцари мечами за альбертову измену. А во многих имперских городах никакой венд не мог стать горожанином, даже если хорошо говорил по-немецки, и женщинам запрещалось выходить за вендов замуж, и не мог венд купить простого или каменного дома, и имперцам венд казался чем-то отвратительным и ужасным.
Но то была свойственная человеку и совершенно здоровая нелюбовь к чужим. Чужак — это враг, об этом человек знал, похоже, еще до того, как стал человеком, об этом знают и животные. Отрицание этого знания, это то же самое, что и отрицание базовой человеческой конституции. Так что этому не следует удивляться. А ведь тогда, в моем истинном в-миру-пребывании, не было тогда народа. Народа как того, что в ваши времена сделалось реальностью, абсолютизирующей всю культуру, ведь у вас имеются национальные музеи и национальная музыка, как те чудные lieder Шуберта, которые слушал фон Эгерн в Эвигер Танненберг, и национальные виды спорта, и национальный характер, и национальные блюда, и национальные спиртные напитки, и национальные праздники, и национальные языки, и национальная архитектура, как именьица Матери Польши, в которых ее лона открываются для размножающих аудиенций, и где находят отдохновение и утеху аантропные польские рыцари.
А в моем истинном в-миру-пребывании были поляки и немцы, чехи и силезцы, те или иные французы, только это определяло их как бы случайно, намного меньше чем то, что они были шорниками, торговцами или рыцарями, подданными своих королей и сыновьями собственных отцов, и, умея отличиться от других по критерию языка, со своими они не не испытывали никакой общности, более широкой, чем границы собственной общественной позиции. Причем, вовсе даже не понимаемой в классовом смысле: мастер-шорник Йозеф Шитцлер из Кракова был, прежде всего, мастером-шорником, сыном старого Шитцлера, тоже шорного мастера, он был начальником своих подмастерий и учеников, отцом своих сыновей и дочерей, мужем своей жены — и именно так думал о себе, не в контексте принадлежности к общественному классу "городского патрициата".
И в собственном истинном в-миру-пребывании я не мучился собственным двуязычием, ни матерью-немкой, ни отцом-суперполяком (что ни говори, урожденным повелителем поляков), и гораздо сильнее меня доставало то, что мир не признает моего урожденного достоинства, что для мира я всего лишь не связанный человек, исключенный из всяческой общности с остальными людьми. А ведь я обязан был быть официальным королевским бастертом, поскольку в моих жилах текла кровь короля Казимира. Но уже тогда чувствовал я как-то, что нахожусь между Краковом и Норемберком, между моей матерью-мещанкой и моим отцом-королем; между людьми, которых нет, и людьми, которые имеются, так как у них имеются дома, цехи, замки, хоругви; равно как и между нациями, поскольку так это определялось, хотя бы в университетах, где нации группировали студентов из различных государств.
А потом, в извечном умирании, тысячи раз переживал я это отсоединение, гораздо более болезненное, чем болезненными были последствия моего незаконного зачатия.
Как и тогда, когда я, ротный пржодовник или же сержант, если бы это была нормальная армия, сижу с младшим штурмовым керовником, или, опять же — в нормальной армии лейтенантом — короче, сижу я с младшим штурмкеровником Тржебиньским в нашем замечательном убежище в Омало, отрезанной от мира деревушке на северо-восточном конце Грузии, на северных уже склонах Кавказа. Никто не знает, зачем мы тут сидим, лично я вроде как занят зарядкой обойм к чешскому ручному пулемету, но, в основном, подслушиваю беседу, которую Тржебиньский пытается вести на своем беспомощном немецком языке. В конце концов, раздраженный, он зовет меня к трубке полевого телефона.
— Как прикажете, коллега штурмкеровник, — браво отвечаю я, чего Тржебиньский терпеть не может, и подхожу к телефону.