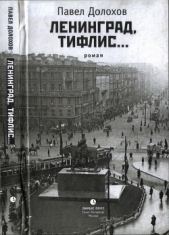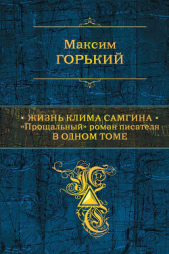Павел II. Книга 1. Пронеси, господи!

Павел II. Книга 1. Пронеси, господи! читать книгу онлайн
Это было в дни, когда император Павел Второй еще лишь мечтал взойти на российский престол; когда служебно-бродячие собаки и гиацинтовые попугаи спасали отчизну; когда оборотень Жан-Морис Рампаль стал матерью тринадцати поросят, чем нанес огромный урон Соединенным Штатам, — а сношарь Лука Радищев потребовал оплаты своего труда не иначе как страусиными яйцами… Книга в качестве учебного пособия никому и никогда рекомендована быть не может.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Веранда застелена была цельным ковром, полукруглым, как она сама, тканным на заказ, тут репарация неуместна. Вообще ковров было у Ивистала вдосталь, в кладовке лежали даже драгоценные, эти, как их, ахалтекинские, кажись?.. Есть и шикарные, с длинным ворсом, чтобы босая нога радовалась, ковров сейчас нужно много — уж чем-то угодить жене-татарке надо же ведь! Довольна будет: и с орнаментами есть, и с райскими птицами. Ивистал присел. Пора бы уже идти в бункер, как обычно, смотреть свой страшный фильм, еще раз прощаться с сыном, но сегодня, после визита Сухоплещенко, маршал не торопился. Сегодня он был опьянен своим одиночеством и тишиной в доме, он впервые за много лет чего-то хотел и жадно ждал. Одиночество его носило, кстати, характер искусственный, но лелеялось тщательно. Для ухода за домом и гигантской усадьбой требовалась, конечно, уйма народу, для присмотра за одним зимним садом и то не меньше двух человек, а еще горничные, лифтеры, истопники, кухарки, еще много кто. Однако указ был всем этим людям строжайший: на глаза не попадаться. Нравилось Ивисталу не смотреть людям в лицо, поэтому сохранил он до сего дня выдумку покойной жены, нарядившей всю прислугу в гуцульские костюмы, — красивый костюм, посмотришь на человека в нем, так лица и не заметишь. Ну, а ту прислугу, которую все же видишь иной раз, никуда не денешься, нарядила жена-покойница в особую униформу: кофточка белая, юбка черная, наколочка — это для будних дней. Юбка, понятно, до полу. Для праздничных же дней наколочки, кофточки, фартучки — алые. Но это в домашние праздники, в банкетные дни опять же вся форма черно-белая. То-то и оно, что алых передничков и наколочек давно Ивистал уже не видел. Осмелились их однажды надеть горничные в его день рождения, да он так взглянул, что сникли и больше не надевали. Вот родит ему теперь Нинель первую пару-тройку наследников, может быть, и станет ему приятно на красные наколочки смотреть.
Раньше, конечно, вызывался в помощь кухарке повар с поварятами откуда надо, если гости приезжали, а в обычные дни она сама справлялась. Мало было работы на троих, на двоих еще меньше, а уж на одного-то… При жене, правда, Ивистал держал еще специального повара, чтобы готовил ей особые кушанья, для желудка легкие. Однако жена погибла, а на что маршалу были легкие кушанья? Или тяжелые? Или какие там вообще? Пищу он любил самую простую, ел ее в холодном виде, — тарелку вареной картошки, черпак икры из банки, и все, сыт маршал и доволен. Сын-то все больше табаком и коньяком, и еще, увы, кое-чем жизнь свою поддерживал. Тоже ему особо кухарки не требовались. Но «легкого» повара маршал не выгнал, а в память о жене, за угождение ей, вывел его на пенсию, дом определил, словом, всем обеспечил — и забыл, как не было. И живых и мертвых помнил маршал лишь до тех пор, пока не заканчивал с ними счеты. Вот и Шелковникова тоже хотел он забыть поскорей.
Ивистал постучал костяшками пальцев по низкому столику, и через мгновение в гостиных и на веранде вспыхнул свет. Время было вечернее. Ивистал поднялся и сделал несколько шагов вперед, передумал и вернулся, собираясь пойти под гардеробную, в бункер, выстроенный стена в стену со складом угля. Бункер был, естественно, противоатомный, на полном самообеспечении, а угля из соседнего погреба должно бы даже без большой экономии хватить самое малое лет на пять. Во всяком случае, хотя бы до бункера нужно дойти сегодня обязательно, — маршал боялся сознаться себе, что сегодня, пожалуй, мог бы обойтись без кинофильма. Хотя и было в этом кощунство и предательство памяти сына, но чувствовал Ивистал, что сегодня ему всего только пятьдесят пять лет и, Бог даст, впереди еще лет двадцать пять — тридцать нормальной жизни, еще успеет он настояться у кормила самодержавной власти, успеет детей новых нарожать и бронзы набрать вдоволь, особенно в Европе, когда туда войска пойдут; словом, думать нужно больше о живых, чем о мертвых. Но ведь и привычке изменить поначалу очень трудно. Не только кинофильменной, но многим другим. Подумав о привычках, вспомнил Ивистал еще нечто и нажатием кнопки на столе в банкетной вызвал маленькую и немолодую горничную, которую прочая прислуга уважала не от хорошей жизни, а оттого, что раз в три-четыре месяца она бывала приближена к маршалу до крайности. Она возникла перед Ивисталом как бы из воздуха, в позе гимназистки, сдающей контрольную работу — опустив глаза и протягивая на вытянутых руках маленькую и изрядно потертую подушечку, от которой сильно пахло анисом. Но стоял к ней Ивистал, конечно же, спиной, и поэтому буркнул:
— Где думка? — потом опять же, не глядя, взял подушечку и пошел в бункер. К этой думке маршал привык еще в Корее, когда от нечего делать и от малых возможностей в смысле репараций он быстро обрастал привычками. Маршал с думкой не расставался, таскал ее с собой повсюду и даже в министерство потихоньку возил, хотя там думкой пользоваться было стыдновато. Он подкладывал ее под ухо в бункере, глядя на экран, и в танке, отходя ко сну, забывал ее там и тут, думка трепалась и вытиралась, но маршал не соглашался взять другую, он привык только к этой, и раз в два месяца, выбрав удобный момент, когда маршал был в отъезде, но думку все-таки забывши, маленькая горничная срочно вызывала химчистку, — думку срочно и на месте чистили, потом обрабатывали анисом. Этот запах Ивистал очень любил с самого далекого почепского детства.
В бункере, в танке и в кабинете висела у маршала на стене одна и та же фотография: жена, молодая и красивая, сидит в плетеном кресле у фонтана, с трехлетним Фадеюшкой на руках, и оба смеются. А в бункере и в танке, кроме того, еще одна, побольше размером: Фадеюшка. Серьезный такой, печальный даже, может быть, чуть нахмуренный, взгляд исподлобья, вроде как бы с одной стороны говорит: «Что хочу, то и сделаю», а с другой — «Это куда же вы меня? Зачем?..» И вроде бы даже как — «Чем виноват?..» Брови да глаза Фадеюшка у жены унаследовал, и волосы тоже, светлые, почти пепельные, вьющиеся. Манеру улыбаться тоже. Жену маршал почти забыл, никакой боли давно не чувствовал, только через сына вспоминал, как бы в зеркале, — но получалось все равно, что отражался в зеркале сын. Сомневался Ивистал, правильно ли делал он, когда позволял мальчику все, ну решительно все, чего тот хотел, — у японцев, где-то слышал маршал, такая система воспитания есть. Даже перестраивать свою часть дома позволял, вот и превращалась классная в боксерскую, с грушей на тросе, потом в фехтовальную, после — в гимнастический зал, а однажды завел мальчик у себя, на третьем-то этаже, борзятню. Не справился, надоело, и собак убрали. Лучше бы уж не убирали. Ивистал не мог слышать об охоте, намеревался, когда у Нинели дети пойдут, положить строго-настрого, чтобы из детишек никто про охоту даже и не слышал. Чтоб никаких бизонов, тигров, носорогов, а захочется пообщаться — вон вам ручные, по участку бегают. Ивистал держал в особом домике лесника-дрессировщика, который и лося ему уже приручил, и пару северных оленей, белки корм из рук берут, две лисы возле танка под бузиной поселились. Впрочем, если очень потребуют детишки, нужно будет львенка им подарить. Только когти стричь ему аккуратно и все зубы вырвать, небось кашей на мясном бульоне прокормится. Пусть играют детишки. Но один след от прежнего сына, это маршал точно знал, в его житье-бытье останется еще надолго: любил мальчик скакать по аллеям, и по сей день стояли в конюшне у ворот два его жеребца, в холе и леле. Никто на них с тех пор не садился. Один белый жеребец, Гобой по имени, а другой — чалый. Купили его с мудреным английским именем, а сын переназвал, и стали звать Воробышком. Любимый. И конюх при них специальный. Гулять выводит, а сесть на тех коней никому не дозволено до их смерти, когда ж помрут, решил Ивистал, нужно из них чучела будет сделать, как из носорога. Но лошади живут долго.
В бункер Дуликов тоже пошел пешком, снова проигнорировав распахнутую дверь лифта. Какая-то тень мелькнула в пролете и пропала: видимо, истопник. Можно бы, конечно, и обойтись без этого мрачного типа, который так и не научился быть невидимым; но ведь и это была память о капризе жены, которая была уверена, что «истопник надежней, чем вода горячая». Пусть его доживает себе, как и лошади, а там поглядим, может, и из него чучело сделаем, мы себе тогда хозяева будем. Дуликов отворил полуметровой толщины дверь бункера. Сделано в нем все было по возможности так же, как в танке, ибо танк и бункер для Ивистала были все равно что близнецы-братья. Одинаковым деревом, не очень темным, оба отделаны, и в обоих видеофон с темным экраном, чтоб прислугу не видеть, больно уж противно. Еще бар стоял в бункере, кровать с тонким одеялом без подушки, коврик на полу. И сейф, где все самое важное, материалы на врагов, ключи от швейцарского банка, — хотя и не любил Ивистал бумажную валюту, а все же миллион-другой в полновесных швейцарских франках на черный день там держал, ну, да так в правительстве каждый делает, — и ключи от государственного банка Республики Сальварсан, — что ни говори, а нет надежней валюты, чем эти самые кортадо, которые еще недавно дерьмом считались, — ключи от еще десятка банков с мелкими вкладами, а главное — драгоценности жены покойной, частью прижизненные, частью подаренные ей посмертно. Из последних наиболее интересным казалось Ивисталу даже не колье жены Геринга, не лучшее оно было, лучшее русская народная артистка к грязным лапам прибрала, а большая шкатулка так называемых драгоценностей Кшесинской: когда захотела старушка-балерина дожить век в крымском раю, обратилась она к консулу в Глазго — мол, дозвольте с приживалками в Крым переселиться, уделите домик в Ореанде, а я вам за это верну все те брильянты да эпидоты, кои государь незабвенной памяти Николай Александрович за особеннейшие услуги преподнес в дар. Миконий Филин тогда как раз задолжал Ивисталу много, после поездки в Лас-Вегас, он там все проиграл, что мог, вот и попали брильянты в сейф к Ивисталу. Старушке, впрочем, дали дожить в Крыму, хотя маршал и не мог никогда понять — зачем, раз она брильянты уже отдала. Еще короны русских царей, так называемые «детские», с голубыми бразильскими брильянтами, тут у него в сейфе лежали, да мало ли еще чего, — любил он делать жене посмертные подарки. Стиль у жены был простой, спартаковский, кажется, так это называется, драгоценностей она не носила, а все же любила камешки-то.