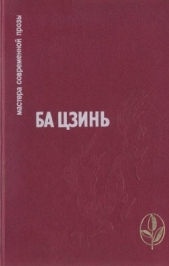Литературные зеркала
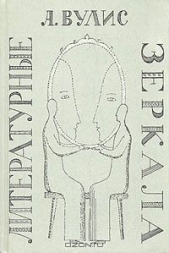
Литературные зеркала читать книгу онлайн
Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зазеркалье Тайрд-Боффина, как и всякий потусторонний мир, изображается с тем элементом невнятности, который сигнализирует о присутствии тайны. Но объявленная, предсказанная тайна — уже отчасти как бы и не тайна, тем более что ее природа от случая к случаю остается неизменной, а значит, может быть разгадана, раскрыта «по аналогии» с другими такими же тайнами. Чего мы ищем «по ту сторону»? Вряд ли я промахнусь, если скажу: нити. Те самые нити, веревочки, канаты, что приводят в движение людей, порождающих по ходу своего взаимодействия жизнь — всегда обыкновенную — и уже тем самым необыкновенную. Зазеркалье связывается обычно с представлением о неких важных, подчас решающих силах, чей труд или колдовской план продумывается и осуществляется «за кулисами». Зазеркалье — это машинный зал Судьбы, творческая лаборатория Верховного Режиссера, кухня Создателя.
Именно на такую функцию своего Зазеркалья постоянно намекает Тайрд-Боффин (от себя, от Ваноски, от «преподавателя симметрии», от любого рассказчика, коего вам заблагорассудится прифантазировать к его сочинению). Собственно, и намекать-то ему нет особой необходимости, потому что действительность любого из эпизодов дается нам как бы незавершенной, как бы возникающей у нас на глазах, в борении вероятностей и вариантов, в схватке черновых и чистовых кусков, в пламени художественного поиска. Словом, в становлении.
Мне трудно находить литературоведческие слова, какие не повторялись бы в повествовании Тайрд-Боффина: он и сам занят литературоведением — или философией, а она в применении к литературным персонажам — опять-таки литературоведение. «Как же я ее мучил! Это был как бы мой творческий поиск, некий суперзамысел, захвативший меня. Это он меня мучил, а не я ее. Я ей все рассказал, но не как правду, а как идею романа…» Или: «Это будет, говорил я Дике, новый рыцарский роман, эдакий рыцарь печального образа, победивший своей верностью и любовью дьявола, внушившего ему этот образ, преодолевший искушение тем, что поверил в него как в истину, и не усомнился в нем. Дика… выдавала… свою ревность за восхищение полетом моей творческой фантазии и отыскивала мне в своей филологической эрудиции аналоги в мировой культуре, утончая и уточняя мою мифологию». Или тут же рядом: «А я искал. То ли очередное сходство, то ли очередной поворот романа. Не знаю, что было впереди чего. То ли замысел моделировал события, то ли события гнали замысел. Стоило мне что-нибудь выдумать, как оно сбывалось, отменив все мое предвосхищение. Стоило чему-нибудь произойти, как оно уничтожалось в памяти, фантастически перекроенное в сюжет…»
И тут я прерву цитирование «Преподавателя симметрии» — может статься, на время, но не исключено, что насовсем, — ради нескольких констатации очевидного, которое без специального подчеркивания того и гляди останется неочевидным. Итак, по-моему, буквально бросается в глаза решимость Тайрд-Боффина расположить события парами, организовать их в две параллельные линии, каждая из которых перекликалась бы с другой, обязательно находя там себе соответствия (не прямые, как по инерции, по зеркальной логике, тянет подумать, а искаженные, трансформированные, иногда — пародийные).
Противостояние этих параллелей столь же необходимо, сколь и их взаимная зависимость и связь. Идеальное живет, дышит, развивается под диктовку материального — и в полемике с материальным. Точно так же материальное (или, если угодно, реальное) учитывает наличие идеального, держит равнение на свой мыслительный, духовный, идеологический, художественный слепок.
Впрочем, стоит ли наводить этот нивелированный порядок во взаимоотношениях идеального и реального под эгидой Тайрд-Боффина? Вряд ли, если посчитаться с желаниями, да намерениями, да предпочтениями самого рассказчика, который имеет весьма тенденциозную шкалу ценностей. А именно: главное, что его волнует в процессе рассказывания, — это не внешние акции, не поступки персонажей, а рассказывание как акт творчества. Именно Творчество изображает преподаватель симметрии. И персонифицированная толпа действующих лиц, рассыпанных по сюжетным закоулкам романа, — всего только материал, на котором Оно оставляет отпечатки своих пальцев, рук и вообще исканий.
«Ладно, — согласится мой возможный оппонент, — эти утверждения еще приемлемы, пока речь идет о первом эпизоде („Вид неба Трои“), который и написан-то от первого лица, в исповедальной тональности, всегда готовой сойти за покаянный монолог автора (художника, режиссера и прочих), за эдакий „отчет о проделанной работе“. Но как быть с историей Гумми — или с апологией Варфоломея? Уж там-то ни Тайрд-Боффин, ни его подставной писака, зитц-председатель и козел отпущения Ваноски, к нам со своими проблемами не суются!?»
Как бы не так! И в этих эпизодах на передний план выдвинуты идеальные аспекты бытия: размышления над смыслом жизни — и над способами реализации этого смысла в литературе, философской, научной, художественной, не говоря уже о его осуществлении «наяву», то есть в самой жизни. Будучи зеркалом реальности, отражением действительных явлений и тенденций, эти размышления, в свою очередь, тяготеют к «зеркальной» тематике — и преимущественно к ней. Доктор записывает: «Дух и материя совсем не различны и не суть гетерогенны. Предметы так называемого внешнего мира состоят из известных комбинаций и отношений тех же элементов ощущений и интуиции, которые в других отношениях составляют содержание души. Материальные вещи и душа частью, так сказать, сотканы из одного и того же основного материала». И опять доктор: «Жизнь протекает в плоскости времени, волнуясь относительно этой плоскости по вертикали, касаясь чего-то свыше, и отходя, и опять касаясь… Трепеща и поблескивая двойным отражением. По сути это образная система с обратным знаком: жизнь есть отражение образа…» И опять доктор: «Раздвоение есть условие цельности. Здоровая личность ясно раздвоена…» И опять он же, на сей раз в филологическом амплуа: «Омоним в двух лицах есть сошедшее с ума слово. Ибо каждое слово — омоним только самому себе. В каждом слове искрит раздвоенность…»
Противоречия — мускулы развития (или обязательные конвульсии этих мускулов, обеспечивающие движению стартовый импульс). Приблизительно такую концепцию наблюдаемых событий открывает «Преподаватель симметрии» при анализе «внешних», объективных событий, преимущественно же «внутренних», субъективных.
Субъективность? Какая? Чья? Да повествователя же, как его ни назови, Тайрд-Боффин, Ваноски или еще как-нибудь. С помощью симметрий, мелькающих в голове у этого персонажа, в его рассуждениях, выкладках, тезисах формируется образ некого супериндивида, который претендует на то, чтобы быть Творцом — и, кстати, творцом и является, потому что именно его сознание со всеми своими атрибутами, процессами, причудами повелевает изображаемым миром (включая рассуждения, выкладки, тезисы вездесущего творца).
Подозреваю: я совершил логический круг — и, вероятно, не один круг. Но что остается делать, имея дело с художественным текстом, на зеркальной поверхности коего то и дело возникают логические круги? Разве что понадеяться, что в моем случае он окажется спасательным. Тем более он вторичен. Он — отражение исследуемого объекта. А объект — отражение действительности. А действительность — характеристика некоего мозга, чье восприятие в такой связи служит недвусмысленным аналогом зеркала.
И здесь мы приходим к уже знакомой нам по кинематографу концепции зеркала: за его сверкающей гладью открывается человеческая психика. «Падение четвертой стены», якобы достигнутое телевидением (когда зритель видит жизнь словно по мановению Асмодея, без всяких препон для зрения), впервые учинил, конечно, кинематограф, если не принимать во внимание гораздо более ранние успехи театра все на том же поприще. И если забыть, что самые ранние попытки увидеть «нутро» человека предприняла мифология — в истории о Нарциссе, смотрящемся в зеркало вод.
Завершаю свою характеристику «Преподавателя симметрии», когда окончание битовского труда лишь очень смутно различимо в тумане грядущих дней и публикаций (где-то промелькнуло обещание «Юности» или самого автора — продолжить начатое, но никто никаких гарантий не давал и сроков не указывал). Поэтому особенно соблазнительной выглядит возможность предсказать некоторые детали дальнейшего Тайрд-Боффина, опираясь на «проспект» самого автора (имею в виду таблицу глагольных форм в предисловии переводчика — стало быть, самого Андрея Битова; ее парадигмы воскрешают Борхеса с его привычкой пользоваться инструментарием научных дисциплин).