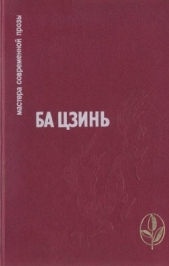Литературные зеркала
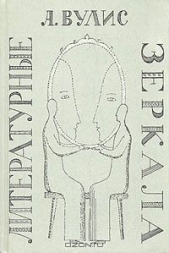
Литературные зеркала читать книгу онлайн
Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эпизод, именуемый «Вид неба Трои», тот самый, где фигурируют абстрактная, хотя и прекрасная Елена да конкретная Эвридика (проще — Дика), нетрудно истолковать как конфликт между идеалом и реальностью. При желании возможен и басенно-пословичный вывод. Простенькая мораль типа: «Лучше синицу в руки, чем журавля в небе!» Дана некая двойственность, повороты налево и направо, альтернатива. И надо предпочесть одно, надо выбрать между тем и этим.
Аналогичная вивисекция даст аналогичные результаты и в других случаях.
Эпизод «О — цифра или буква?» предлагает нам противопоставление разных духовностей: показной, псевдоинтеллигентской — и подлинной, внутренней. От имени первой выступает доктор Роберт Давин (чем-то напоминающий либералов из Фолкнера или Сэлинджера), вторую воплощает, а отчасти и провозглашает Тони Бадивер, по прозвищу Гумми, тот самый, кого со всех сторон спрашивают: «Ты что, с Луны свалился?» (этот похож на «чудиков» Шукшина). «Лунная» духовность оказывается, по Тайрд-Боффину, предпочтительнее интеллигентской.
Третий эпизод — «Битва при Эйзете» — в большей мере приближен к комической буффонаде, нежели два предыдущих, благодаря чему в нем просматриваются отчетливые черты пародийной стилизации: то «Кондуитом и Швамбранией» повеет, то Окуджавой с его «Бумажным солдатиком» или песенкой, что начинается словами: «В поход на чужую страну собирался король, ему королева мешок сухарей насушила…» Однако в целом концепция этой миниатюры не исчерпывается мотивами переоблачения маленького человека в повелителя вселенной (на том основании, что он «командует» энциклопедией со всем ее обширным аппаратом, человеческим контингентом и прочими аксессуарами Ойкумены).
Институт ряженых всегда сулит стороннему наблюдателю обилие забавных, поучительных контрастов — между разными обликами одного и того же персонажа, между одним и тем же фанатизмом в разных персонажах. И Тайрд-Боффин одержим своей способностью абстрагировать, как Гумми — своей тайной способностью летать (в подражание, скажем, героям и героиням Шагала). Поэтому он не хочет довольствоваться малыми радостями водевильного смеха, провозглашая: внутренний мир человека, отдельной личности, не менее богат и велик, нежели любая, пускай хоть самая обширная империя. И наоборот: империя не богаче… и т. д. И, стало быть, величие — суета, подвиг — рутина, король Варфоломей — скромный работник издательского фронта, составитель справочных книжек, которые отвечают на все вопросы, наводящие, риторические и «по существу», а не отвечают только на один вопрос: «В чем же человеческое счастье?» Вообще и в частности — для Варфоломея. Так Варфоломей на миг уподобляется знакомым персонажам сегодняшней литературы — да хоть тому же герою «Гладиатора» С. Есина. Уподобляется, чтоб тотчас «распо-добиться», вернувшись к безмятежным будням короля.
Мир — энциклопедия. Вот главная симметрия эпизода. Фундаментальная, идейно-политическая и социально-экономическая, какая угодно. Варфоломей — и его отсутствующий (вернее, присутствующий неведомо где) брат-отличник — вот вторая симметрия. Многозначительная хотя бы тем, что всякая фигура, удалившаяся в зеркале за угол, грозит сюжету непредвиденными событиями, мятежом, переворотом. Тут возможно и чисто твеновское: родились мы близнецами, один из нас утонул, и это был, как вы уже понимаете, отнюдь не мой брат… И аналогичные казусы из биографии Сальвадора Дали. Но лучше принять битовское: человек живет за себя, но он живет и за своих близких и ближних, наличествующих или исчезнувших.
Так что у человека не одна жизнь, а несколько. И на это «несколько» нет железно регламентированного графика, нет расписания, не заложена в него строгая кибернетическая программа: когда и как сочетаются элементы комплексной, «за себя — и за других», жизни. Иногда процветают параллельные соединения, иногда — последовательные, допускаются также «совмещенные», комбинированные случаи. Прекрасная Елена — подданная прошлого, наделенная гражданством в настоящем. Не исключено, впрочем, что ее исключительный удел и надел — как раз будущее. Ибо повествователь манипулирует прекрасной Еленой как неким вымыслом — гипотезой и мечтой. И с такой точки зрения никто и ничто не мешает нам утверждать, что это не он ею, а она им манипулирует.
«Издана» прекрасная Елена ощутимо большим тиражом, ну уж никак не менее полудюжины экземпляров, и множительная техника, использованная на сей раз, удивительно похожа на систему «зеркало напротив зеркала». Изображения повторяются, удваиваются, утраиваются — как будто независимые, но на самом-то деле взаимосвязанные, нанизанные на одну нитку, как утки (или гуси?) у барона Мюнхгаузена, что вполне понятно: зеркал много, а объект, ими отражаемый, — один.
Автор размышляет о реальности недосягаемого — и о недосягаемости реального.
Я перепрыгнул на разговор о прекрасной Елене, ведя речь о короле Варфоломее. Ничего страшного. С таким же успехом можно воротиться от Елены к Варфоломею: вокруг него накидано — точечками, как у Синьяка, — столько же, если не больше, дополнительных, вспомогательных, подсвечивающих основное отражений. Но и здесь — кто возьмет на себя смелость утверждать, будто одно — главное, и только главное, другое же — второстепенное, и только второстепенное? Почему столь категорично? Почему не наоборот?
Трактуя в литературоведческом плане художественное мироощущение Тайрд-Боффина, я сознательно напускаю в свой текст множество всяческого импрессионизма и постимпрессионизма, чтоб средствами этой стилистики отразить атмосферу «Преподавателя симметрии». Естественно, авторская стилистика Тайрд-Боффина устремлена к тому же пределу — и куда энергичнее.
«Преподаватель симметрии» обучает нас диалектике на конкретных примерах, когда единство и борьба противоположностей доведены до азбучной отчетливости. Фантасмагорический калейдоскоп повести, ее расплывчатость, ее туманные мазки — вся эта готика на грани сюрреализма, весь этот символизм абстракционизма — выступают, сколь сие ни парадоксально, от имени и по поручению заданной тенденции. Более того, вещь Тайрд-Боффина не просто тенденциозна, она иллюстративна.
Не будем пугаться термина. На принципе иллюстративности зиждется притча. На нем основана историческая проза, которая и занимается всего-навсего попытками воскресить историю посредством «картинок». Иллюстративным подходом порождена ситуация симбиоза «название изображение», который сопутствует современной живописи неотступно. Обратимся ли мы к Сальвадору Дали или к Пикассо, Максу Эрнсту или Магритту, никакого эстетического эффекта нам не заполучить, игнорируя тот лапидарный авторский монолог, каковым представляется заглавие произведения. Только сочетание слов с красками формирует окончательный художественный смысл вещи. Но об этом позже, пока — о Тайрд-Боффине.
Так почему же Тайрд-Боффину должно быть зазорно то, что не зазорно ни Сальвадору Дали, ни Тынянову, ни Эзопу, ни Ларошфуко?.. На Ларошфуко мне хотелось бы оборвать сие перечисление. Потому что по ассоциации с Ларошфуко мне вспомнился Монтень, а без имени Монтеня невозможен дальнейший разговор о «Преподавателе симметрии».
Стилистика Тайрд-Боффина — это стилистика Монтеня. Повествователь может сколько угодно менять свои псевдонимы и маски, именуя себя то так, то этак, то еще как-нибудь, но главная, поистине божественная субъективность все равно будет присутствовать там, на командном пункте, в будке киномеханика (или как еще вам заблагорассудится называть те центральные, регулирующие, мозговые центры произведения, кои аккумулируют его суть). И в «Преподавателе симметрии» «будку киномеханика» занимает Монтень. Вполне может быть, что и преподавателем симметрии нам в конечном счете объявят Монтеня (разумеется, при условии, что Борхес даст на то согласие, без Борхеса разбрасываться должностью, как бы ему принадлежащей, все-таки не очень ловко).
Что в «Преподавателе симметрии» от Монтеня? Прежде всего общая афористичность мышления — еще на «дофразовом», «доформулировочном» уровне. Варфоломей — король. На нем вся энциклопедия, то есть весь мир, держится. Энциклопедия — это мир. Но и мир — энциклопедия, книга, подвластная вмешательству простого смертного, чуть ли не, кажется, в бухгалтерских нарукавниках. Персонажи Тайрд-Боффина смотрятся в зеркало притчи. Какое оно, это зеркало? Кривое? «Прямое»? Я бы сказал, абстрагирующее, снимающее с явления схему, как с местности снимают карту. И заключающее эту схему в афоризм.