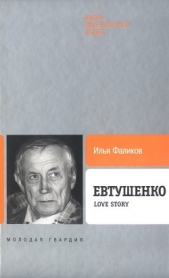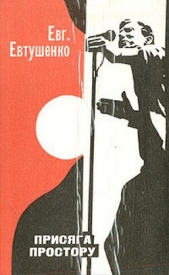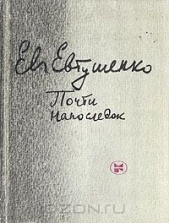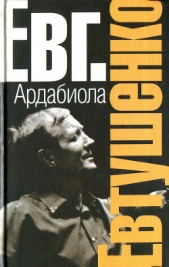Талант есть чудо неслучайное
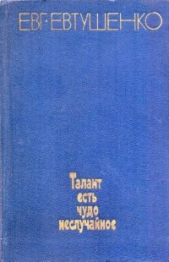
Талант есть чудо неслучайное читать книгу онлайн
Евгений Евтушенко, известный советский поэт, впервые издает сборник своей критической прозы. Последние годы Евг. Евтушенко, сохраняя присущую его таланту поэтическую активность, все чаще выступает в печати и как критик. В критической прозе поэта проявился его общественный темперамент, она порой открыто публицистична и в то же время образна, эмоциональна и поэтична.Евг. Евтушенко прежде всего поэт, поэтому, вполне естественно, большинство его статей посвящено поэзии, но говорит он и о кино, и о прозе, и о музыке (о Шостаковиче, экранизации «Степи» Чехова, актрисе Чуриковой).В книге читатель найдет статьи о поэтах — Пушкине и Некрасове, Маяковском и Неруде, Твардовском и Цветаевой, Антокольском и Смелякове, Кирсанове и Самойлове, С. Чиковани и Винокурове, Вознесенском и Межирове, Геворге Эмине и Кушнере, о прозаиках — Хемингуэе, Маркесе, Распутине, Конецком.Главная мысль, объединяющая эти статьи, — идея долга и ответственности таланта перед своим временем, народом, человечеством.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
день нашей общей победы. Мы — одно целое, потому что общие трагедии времени
тяжело проходили по нашим общим хребтам, потому что наши общие промахи,
ошибки, нехватки мучают нашу общую совесть. Мы — одно целое, потому что у нас
общие надежды на общее будущее. И в этом будущем, может быть, настанет какой-
нибудь такой час, когда люди всего человечества, сбросив со своих плеч груз
социальных несправедливостей и любых видов расовой дискриминации, скажут друг
другу с долгожданным вздохом облегчения: «Мы — одно целое...»
1977
ГЕНИЙ ВЫШЕ ЖАНРА
к
композитор может быть только композитором, художник — только художником,
шпатель — только писателем, и если они не допускают нарушения законов
профессионализма и нравственности, впрочем, на мой взгляд неразделимых, то в
лучшем случае тем не менее остаются лишь честными ремесленниками. Гении выше
ремесла. Произведения честных ремесленников могут прожить иногда долго, но лишь
как достояния определенного жанра. Гений выше жан-рп. Творчество гения
перерастает рамки даже сферы искусства в целом и становится частью национального
п мирового достояния, включающего в себя весь исторический опыт прошлого вместе с
первой попыткой недочеловека встать с четверенек и стать человеком, вместе со всеми
войнами п революциями, вместе со всеми личными и общественными трагедиями,
вместе со всеми слезами, кровью, вместе со всеми мучительными поисками веры,
надежды, любви, вместе со всеми великими поражениями и победами. Равель
принадлежит только музыке, Утрилло — только живописи, Фет —только поэ-IIIи, и
честь и хвала им за достойное служение их музам. Но Пушкин, Бетховен, Пикассо
принадлежат не только своим музам, а истории. Принадлежность истории не означает
неверности музам, а символизирует высшую, гени-Льную степень этой верности.
Рыдание инвалида, искалеченного войной, и мощное эхо трагической и победительниц
Девятой симфонии Шостаковича, отдавшейся своими раскатами во всем человечестве,
по праву стоят рядом
172
именно внутри истории. Эта симфония Шостаковича не была его личной победой,
она стала победой выстоявшего, несдавшегося народа, и в победное знамя над
Берлином были невидимыми нитями вплетены ее звуки. С Шостаковичем произошло
редкостное чудо — уже при его жизни всем было понятно, что он гений. Надо ли,
однако, искусственно ретушировать его портрет, и особенно исторический фон этого
портрета, с недостойной застенчивостью представляя дело так, будто его жизнь была
гладкой дорогой, усыпанной только розами? Шостакович пережил нелегкие
моменты, натыкаясь на обиды и даже оскорбления. Но в том и сила гения, что он не
переносит своих личных обид на свою страну, на свой народ в целом, умеет подняться
над обидами, даже из своих страданий выковывая музыку. Талант Шостаковича по-
пушкински всеобъемлющ: он был мастером камерного лиризма, утонченным
метафизическим философом (вспомним хотя бы его Четырнадцатую симфонию на
тему смерти и бессмертия), был едким сатириком (его блистательная ранняя
импровизация на тему заявлений жильцов коммунальной квартиры друг на друга или
музыка к спектаклю «Клоп»), был звонким, неповторимым песенником («Не спи,
вставай, кудрявая...» — песня, в сегодняшнем восприятии так горько окрашенная
нашим знанием о судьбе автора этих стихов), был могучим оперным эпиком и даже не
гнушался попытками создать легкую, искрящуюся оперетту, хотя здесь его ожидали
неудачи. Но все это объединено той связующей силой исторического сцепления,
которая и делает творчество принадлежностью не жанра, а истории.
Гражданственность — это вовсе не декларация о любви к Родине, а то врожденное, не
убиваемое никакими обидами и —даже наоборот — укрепляющееся под ударами
чувство времени как части вечности. Такова была вся жизнь Шостаковича. Его не
увели от гражданственности ни чьи-то оскорбления, ни всемирная слава. Гений
проходит испытания и холодной, и горячей водой, но это лишь процесс духовного
закаливания. Те, кто поддаются трудностям или попадаются на крючок с ядовитым
червячком славы, умирают при жизни. Те, кто преодолевают это, преодолевают и
смерть после смерти. Шостакович умел не замечать своей славы, а если и радовался
успеху своих произведений, то это
332
пыла радость не за самого себя, а радость за своих Летен, которые самостоятельно
идут по жизни, уже от-
I и но от него.
Когда я впервые познакомился с Шостаковичем, я in I поражен его необыкновенной
скромностью и не по-i I той, а природной стеснительностью. В 63-м году раз-я
телефонный звонок. Подошла моя жена. «Про-. гите, мы с вами незнакомы, это говорит
Шостакович. ( к а жите, пожалуйста, Евгений Александрович до-М|; _ «Дома. Работает.
Я сейчас его позову. .» — «Работает? Зачем же его отрывать? Я могу позвонить в
бое другое время, когда ему будет удобно...» В этом был весь Шостакович. Он
понимал, что такое работа. (Как не похожи тактичность и вежливость истинного рения
на бестактность некоторых так называемых моло-
, гениев, врывающихся иногда в квартиру или на дачу с требованием прочесть их
стихи и не обращающих никакого внимания даже на то, когда в твоей семье кто-то
болен или по горло занят ты сам.) Я подошел i гелефбну, естественно, взволнованный.
Шостакович Смущенно И сбивчиво сказал мне, что хочет написать «одну штуку» на
мои стихи, и попросил у меня на это разрешения.
Нечего и говорить, как я был счастлив уже одному, что он прочел стихи. Но
несмотря на свое счастье, я I г гаки очень сомневался, тревожился, даже дергался, mi да
через месяц он пригласил меня к себе домой по-СЛушать то, что написал. Впрочем,
дергался и Шоста-КОВИЧ, У него уже тогда болела рука, играть ему было груДНО.
Меня потрясло то, как он нервничает, как он i;ip;iiicc оправдывается передо мной и за
больную руку и за плохой голос. Шостакович поставил на пюпитр Клавир, на котором
было написано «13-я симфония», и стал играть и петь. К сожалению, это не было
никем записано, а пел он тоже гениально — голос у него был никакой, с каким-то
странным дребезжанием, как буд-1п что-то было сломано внутри голоса, но зато испол-
ненный неповторимой, не то что внутренней, а почти ПОТ} сторонней силой.
Шостакович кончил играть, не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому
сто-,|, судорожно опрокинул одну за другой две рюмки водки и только потом спросил:
«Ну, как?» В Тринадцатой симфонии меня ошеломило прежде всего то, что
173
если бы я (полный музыкальный невежда, пострадавший когда-то от неизвестного
мне медведя) вдруг прозрел слухом, то написал бы абсолютно такую же музыку. Более
того — прочтение Шостаковичем моих стихов было настолько интонационно и
смыслово точным, что казалось, он, невидимый, был внутри меня, когда я писал эти
стихи, и сочинил музыку одновременно с рождением строк. Меня ошеломило и то, что
он соединил в этой симфонии стихи, казалось бы, совершенно несоединимые.
Реквиемность «Бабьего яра» с публицистическим выходом в конце и щемящую
простенькую интонацию стихов о женщинах, стоящих в очереди, ретроспекцию всем
памятных стихов с залихватскими интонациями «Юмора» и «Карьеры». Когда была
премьера симфонии, на протяжении пятидесяти минут со слушателями происходило
нечто очень редкое: они и плакали, и смеялись, и улыбались, и задумывались. Ничтоже
сумняшеся я все-таки сделал одно замечание Шостаковичу: конец Тринадцатой
симфонии мне показался слишком нейтральным, слишком выходящим за пределы
текста. Дурак тогда я был и понял только впоследствии, как нужен был такой конец,
именно потому, что этого-то и недоставало в стихах — выхода к океанской,