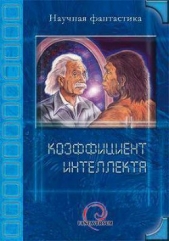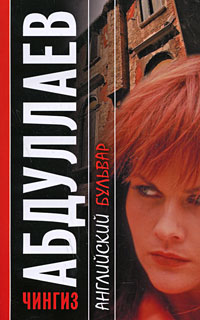Железный бульвар

Железный бульвар читать книгу онлайн
Самуила Лурье называют лучшим современным русским эссеистом. Он автор романа «Литератор Писарев» (1987), сборников эссеистики «Разговоры в пользу мертвых» (1997), «Муравейник» (2002), «Успехи ясновидения» (2002). «Такой способ понимать» (2007) и др.
Самуил Лурье — действительный член Академии русской современной словесности, лауреат премий им. П. А. Вяземского (1997), «Станционный смотритель» (2012) и др.
В новой книге Самуила Лурье, вышедшей к его юбилею, собрана эссеистика разных лет. Автор предпринимает попытку инвентаризации ценностей более или менее типичного петербургского интеллигента. Разбирается, как взаимодействуют в его уме и в окружающей реальности Город и Литература. Фланирует по воображаемым улицам, разговаривает с призраками других авторов и чужих персонажей, строит домыслы о вымыслах, — все как обычно.
«Читать и перечитывать Лурье — полезно для здоровья. Быть может, он и не повысит наш гемоглобин, но собьет наши лейкоциты, ибо его тезис прост: культура возможна».
Дмитрий Савицкий (Париж).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он изображал других: роковая ошибка. Писатель, ищущий бессмертия, должен других выдумывать. То есть на самом-то деле выдумывать самого себя и распределять по ролям, ни на каких посторонних не отвлекаясь. Заимствуя у них лишь наружность: социальное положение, пол, возраст и т. д.
Базаров так и сделан. Оттого «Отцы и дети» — великое произведение.
Описания природы — почти все (а например — в «Фаусте») тоже сделаны так. Хотя и природы такой больше нет. И языка, которым она передает чувства автора. И уж подавно не стало таких чувств.
Что же до прочих персонажей — читаешь, как про инопланетян. Особенно что касается молодых женщин. Напрочь лишенных эгоизма и с волей настолько сильной, что она удерживает их — в решительную минуту судьбы — от падения в обморок.
Ну и пусть. Все равно — надо помянуть, непременно помянуть надо. Потому — такая выпала судьба: жить в третьем мире, среди вещей и учреждений третьего сорта. Часто — украденных. Еще чаще — карикатурных. А представление о настоящих ценностях дает фактически одна лишь литература, и то большей частью старинная.
Для чего И. С. Тургенев в ней и участвовал. Чтобы, значит, оставить что-нибудь родной стране. Чтобы у нее впредь имелось что-нибудь за душой.
Сидит, бывало, закутавшись в шотландский плед (черно-зеленая клетка), и выводит, допустим, такие слова:
«Одно убеждение вынес я из опыта последних годов: жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение… жизнь — тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное — вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы они возвышенны ни были, — исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща; а в молодости мы думаем: чем свободнее, тем лучше, тем дальше уйдешь.
Молодости позволительно так думать; но стыдно тешиться обманом, когда суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза.
Прощай! Прежде я прибавил бы: будь счастлив; теперь скажу тебе: старайся жить, оно не так легко, как кажется…»
Такая серьезность. Такая ясность. Такое отношение к жизни, при котором человеку ну уж никак не до того, чтобы способствовать порабощению других людей.
Помянем, короче говоря, старика. Не чокаясь. Пока они там аплодируют. Вечная память.
Опыты о причинах неудач
МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО
ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛПАК
Взять несколько необъятных слов, подобных облакам, — и так стиснуть, чтобы все вещество смысла упало в память кристаллом цветного сна — галлюциногенным леденцом нерастворимым.
Например: Империя, Петербург, Серебряный так называемый век.
Вот, извольте — четыре строки на всю вашу жизнь:
Полстрофы — как бы кисти Серова: грузный воротила, магнат, меценат — короче говоря, новый русский какого-нибудь 1910 года — и тесно ему в раме.
А другие полстрофы — не с чем сравнить, но нельзя забыть, — потому что ветер с моря, и бубен лязгает, — и тяжелое дыхание нетрезвых, праздных, безумных, — и чуть ли не Блок в их толпе… Измятый снег, залитый закатом, — острый каблук, пестрый подол, чужое несчастье, обиженный голос.
Все это было с вами, — ничего этого не было с Осипом Мандельштамом, — никогда, никогда, — так и знай, читатель 1931 года: к эксплуататорским классам не принадлежал!
А как легко, сдвинув падеж, развернул к себе цыганку!
Только не верьте, будто банковские билеты с изображением Екатерины II печатались на особенно ломкой бумаге.
И откуда Мандельштаму знать, что деньги под ногами — как снег…
Тяжелый какой этот хруст, — и что правда, то правда: на декабрьском закате снег у нас ярко-желтый.
Вот и запоминаешь чужие стихи, как собственный горестный сон.
Стихотворение, хоть и сложено в Москве, придумано, должно быть, на Васильевском — на Восьмой линии, 31, в квартире брата — верней, в каморке над черной лестницей (помните: «вырванный с мясом звонок»?)… Тихонов, главарь местных писателей, сказал: «В Ленинграде Мандельштам жить не будет. Комнаты ему мы не дадим», — катись колбаской, надменный скандалист, бывший поэт, а ныне бомж и безработный, — а впрочем — персональный пенсионер и прихлебатель Бухарина, вот и живи, где патрон приютит…
А не надо, когда обсуждают творчество руководителя, выступать с поучениями: что, дескать, поэтическое пространство и настоящая поэтическая вещь как-то там якобы четырехмерны… Ступай теперь в свое измерение.
Мандельштам не упирался: этой зимой город показался ему страшен. Да и прежде что в нем было такого прекрасного? Детство, да юность — ну, еще молодость и сколько-то любовей, — одни обиды, короче говоря.
С чьей-то прощается все-таки волшебной наготой, — я догадываюсь, да не скажу — полюбуйтесь лучше, как рифмует рыжая грива с лимонной Невой, а Нева — с той английской графиней, — и «никогда, никогда» — с «я не помню»… и лед укрывает строфу!
Но ведь все это поверх синтаксиса, даже как бы вперекор, — а ведь в мыслях мы расставляем запятые и вопросительные знаки, не правда ли? Значит, стихи — непонятные. Спрашивается: отчего этот недоброй памяти город вам дорог? Ответ: вероятно, потому, что в детстве я видел иллюстрацию к балладе Теннисона. Тут не то что Тихонов, а и профессиональный дознаватель озлится: нечего, скажет, темнить. Скучаете по буржуазному строю, так и пишите…
Хотя в ту, первую пятилетку кое-кто еще помнил про графиню Ковентри — отчего нельзя было на нее смотреть. И кто подглядел — вор, а кто помнит — предатель, а кто позабыл — тень. И в сущности, совсем не такой причудливый ход мыслей: что любил, например, прекраснейшую из столиц — без взаимности, но это не важно, не важно, — а теперь судьба настаивает, что благородней — разлюбить… Или так: согласно кодексу русской классики, добровольно соглашаюсь предпочесть свободе — равенство; вдруг в придачу получится братство… А что и в царстве несправедливости случались минуты красоты — не мне о них жалеть… Сказано отрывисто, но вполне разборчиво, — а трудность для дознавателя только та, что пространство вещи действительно не трехмерное.
Призраки цвета, фигуры звука — и в словах, впервые встретившихся, черты внезапного сходства, — и вся эта нескончаемая игра неожиданности с необходимостью создают речь как бы не совсем человеческую, в которой смысл фразы бесконечно усилен доставляемым ею наслаждением. Кому она приносит счастье, тот ее и понимает вполне.
Стихи Мандельштама, написал Владимир Вейдле, самое пышное и торжественное, что случилось в Петербурге в двадцатом веке.
А Виктор Жирмунский дал формулу: поэзия поэзии. Теперешние ученые отмахиваются: поверхностно! — а по-моему, верно: главное действие Мандельштама — возведение в степень. Он едва ли не каждому слову возвращает ценность метафоры.