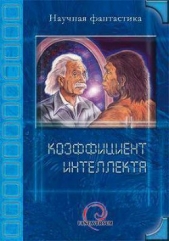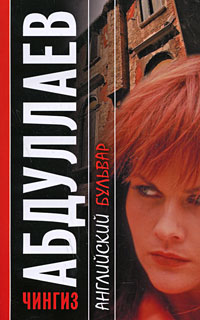Железный бульвар

Железный бульвар читать книгу онлайн
Самуила Лурье называют лучшим современным русским эссеистом. Он автор романа «Литератор Писарев» (1987), сборников эссеистики «Разговоры в пользу мертвых» (1997), «Муравейник» (2002), «Успехи ясновидения» (2002). «Такой способ понимать» (2007) и др.
Самуил Лурье — действительный член Академии русской современной словесности, лауреат премий им. П. А. Вяземского (1997), «Станционный смотритель» (2012) и др.
В новой книге Самуила Лурье, вышедшей к его юбилею, собрана эссеистика разных лет. Автор предпринимает попытку инвентаризации ценностей более или менее типичного петербургского интеллигента. Разбирается, как взаимодействуют в его уме и в окружающей реальности Город и Литература. Фланирует по воображаемым улицам, разговаривает с призраками других авторов и чужих персонажей, строит домыслы о вымыслах, — все как обычно.
«Читать и перечитывать Лурье — полезно для здоровья. Быть может, он и не повысит наш гемоглобин, но собьет наши лейкоциты, ибо его тезис прост: культура возможна».
Дмитрий Савицкий (Париж).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Умела, умела ненавидеть. Умела не прощать. И боготворить. И любить тех, кого любила, — бесконечно. Как сорок тысяч сестер. И даже бывать счастливой: от снега, от гениальных текстов, и если Правде почему-либо выпадала победа.
ГОРЕ УМУ
3 сентября 2007
Сегодня в три пополудни случится событие культурной жизни. На стене одного дома в улице Рубинштейна окажется мемориальная доска. Тут жил Сергей Довлатов. И ему исполнилось бы в аккурат 66.
И во-первых, как жаль, что не исполнилось. Правда, в этом случае не было бы и доски, — ну и пусть. Навесили бы ее потом — скажем, в середине века. А зато — минуя житейские сентименты, — зато не было бы так совестно за литературу.
Которая, мы же видим, ходит по историческому отрезку на цыпочках, всей фигурой выражая: только не обращайте на меня внимания, кушайте, кушайте, а я пристроюсь где-нибудь в уголку.
Довлатов, мне кажется, не позволил бы себе поглупеть ни от старости, ни от славы. Измена уму была для него невозможна.
Хотя ум буквально изводил его: без конца придирался и дразнил, и был недоволен каждой написанной строчкой, не говоря уже обо всем остальном.
Не давал вздохнуть спокойно и решить раз навсегда: я писатель настоящий и притом хороший.
Поэтому Довлатов себя все время переписывал. Стараясь угодить уму: чтобы, значит, ему в тексте жилось удобней. И — по крайней мере, в некоторых вещах — добился странного и очень редкого эффекта: они выигрывают от перечитывания.
И это во-вторых: что все получилось по справедливости: живая слава и — довеском — доска на фасаде Рубинштейна, 23.
Он писал про то, что жизнь — цирк, а люди все — клоуны. Поскольку жил в такое время и в такой стране, где эта метафора — или, если хотите, гипербола — полностью осуществилась. Воплотилась. Реализовалась. В системе маразма и нищеты, непоколебимо прочной ввиду их абсолютного равновесия. Где при малейшей попытке добиться чего-нибудь теряешь больше, чем приобретаешь. И не имеет смысла т. н. труд. Постыдно ничтожен ассортимент призов т. н. судьбы. Смертельно опасна любая т. н. правда. И вообще — быть не дураком нестерпимо: все время тошнит. А когда социализм доходит до такой зрелости, единственное средство — алкоголь.
Погружающий в безумие с остроумием пополам.
Видите ли, существование состоит из поступков и слов. Но в силу данного общественного строя перед каждым обнажилась тщетность поступков. Соответственно, в речевой деятельности возобладал и господствовал вздор. И люди различались главным образом по интонации: произносят ли они вздор серьезно — или же насмехаясь над собой. Или просто в пьяном бреду.
Три сорта вздора — три сорта, три сорта — что в уголовной зоне, что в литературной, с позволения сказать, среде.
Персонажи несут вздор, автор — сортирует. Этот говорит смешно, потому что кретин. А этот говорит смешно, потому что циник. А этот — потому что он в белой горячке.
Во всех случаях содержание высказывания стремится к абсурду. Это искусство для искусства, лагерная самодеятельность.
«Законы языкознания к лагерной действительности — неприменимы. Поскольку лагерная речь не является средством общения. Она — не функциональна.
Лагерный язык менее всего рассчитан на практическое использование. И вообще, он является целью, а не средством…»
Биография Довлатова словно нарочно сложилась так, чтобы открыть ему глаза на роковое сходство двух зон. На смысловую пустоту по обеим сторонам запретки.
Но пустота — она и есть пустота. Медицинский факт, с которым ничего не поделаешь. Всем известный, кроме придурков. Повергающий в отчаяние. Не забавный, сколько ни остри. Уму в пустоте нечего ловить. Ожидая своей очереди кувырнуться на манеж, клоуны потихоньку переговариваются:
«— Мишка, — говорю, — у тебя нет ощущения, что все это происходит с другими людьми… Что это не ты… И не я… Что это какой-то идиотский спектакль… А ты просто зритель…
— Знаешь, что я тебе скажу, — отозвался Жбанков, — не думай. Не думай, и все. Я уже лет пятнадцать не думаю. А будешь думать — жить не захочется. Все, кто думает, несчастные…
— А ты счастливый?
— Я-то? Да я хоть сейчас в петлю! Я боли страшусь в последнюю минуту. Вот если бы заснуть и не проснуться…
— Что же делать?
— Вдруг это такая боль, что и перенести нельзя…
— Что же делать?
— Не думать. Водку пить.
Жбанков достал бутылку…»
Это в-третьих: что Сергей Довлатов не просто писатель. А герой трагической легенды. Символ отчаяния от пошлости. Власть которой в чистом виде и называлась советской.
Он увез это отчаяние с собой в Америку и погиб от его метастазов.
И вот прошло столько лет — а тут опять мочало реет на колу. Снова стиль жизни — бесчеловечная фальшь. В цветных лучах бесстыдного оптимизма красуется небоскреб произвола.
И как будто почти всем хоть бы что. Тексты Довлатова отчасти растолковывают — почему.
А потому что люди довольно легко обходятся без свободы. И способны бесконечно долго молоть и слушать исключительно вздор. Лишь с безнадежным опозданием замечая, что они превратились в клоунов, а их жизнь — в цирк.
ЗАГОН СУРОВ
10 декабря 2007
Покуда, значит, кипит вся эта суета вокруг кумира сего. Как бы это, значит, его передвинуть, не перемещая. Либо переместить, не шелохнув. Не в пространстве, а только во времени. Из пункта Нынче в пункт Навсегда.
Такой безопасный, такой удобный организовать перелет, чтобы ничей зад случайно не выскользнул из заполняемого им гос. кресла. Родного. Нагретого. Притертого. Медом намазанного. Отлакировать его для верности суперклеем «Момент»…
Покуда Серая Шейка нарезает круги по сужающейся полынье — и набирает по сотовому чей-то лондонский номер, и вымолвить хочет: давай улетим! — но нажимает «отбой»: ах, нету средства от зимы, кроме колючей проволоки вдоль берегов, — а гаагская рыжая следит голодными глазами…
Пока обыватель томится в накопителе, ожидая объявления: в каком из подлунных миров — не в четвертом ли — высадят его этак через недельку-другую. Не в Союзе ли, например, Скифском, Соборного Рычания…
В общем, покамест тянется этот интервал — от политического, так сказать, нечего делать и в предвкушении неизбежной, но непредсказуемой подлянки, — не развеять ли нам гражданскую скуку страничкой русской классики. Уцененной, если кто заметил, без прочтения, огульно.
Извлечь, скажем, из мусорного бака вещицу некоего Лескова Н. С. под названием «Загон». За что, интересно, эту штуку гнобили обе цензуры — царская и советская, мать и дочь.
А за то, что, представьте себе, в 1893 году (тоже в историческом интервале: на перегибе от Александра Третьего к Николаю в своем роде Последнему) Лесков вывел для России окончательную формулу судьбы: особенный такой План, или, если угодно, Антиплан, — которому должно неуклонно следовать государство, чтобы до скончания веков большинство населения состояло из несчастных и злых. И чтобы эта несчастная и злая масса (нарочно лишаемая смысла и регулярно сводимая с ума) цеплялась за данный План изо всех своих страшных сил.
Ключевые понятия такого Плана — Стена и Загон. Лесков начинает от Стены, поскольку в ней вся суть: настоящий Загон можно создать только за достаточно прочной Стеною. Прочной в умах.
В 90-х позапрошлого свирепствовала мода, похожая на теперешнюю: проклясть и забыть лихие 60-е — эпоху т. н. великих, но нежелательных реформ, когда хитрые злодеи, воспользовавшись поражением империи в Крыму, собственной выгоды ради попытались навязать стране какую-то, черт ее дери, свободу. Когда и с внешней стороны Стены «разные беспокойные люди старались проломать к нам ходы и щелочки, и образовали трещины, в которые скользили лучи света».