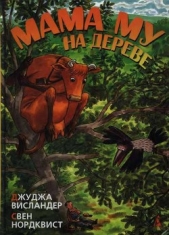В июне тридцать седьмого...

В июне тридцать седьмого... читать книгу онлайн
«После перерыва в Георгиевском зале в качестве «гостей» Пленума появились все руководители НКВД (Ежов сидел в президиуме): Фриновский, Курский, Заковский, Бельский, Берман, Литвин, Николаев-Журид. На Соборной площади в переходах и тупиках Кремля возникла, как из-под земли, целая армада оперативных работников государственной безопасности… После того как Пленум ЦК «закончил свою работу», заговорщики, оставшиеся в зале, были арестованы».
И. Минутко
Роман Игоря Минутко рассказывает о жизненном пути пламенного революционера-ленинца, в дальнейшем крупного партийного и государственного работника, наркома здравоохранения РСФСР Григория Наумовича Каминского. В июне 1937 года он был одним из участников так называемого «заговора за чашкой чая», когда группа партийных работников во главе с Пятницким решила выступить на Пленуме с критикой сталинской коллективизации в деревне и против репрессий. Все заговорщики были арестованы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Едак мы второго пришествия дождёмся!
— Начальника поезда подавай! — шумел пожилой солдат с бледно-жёлтым и донельзя озлобленным лицом. — Мы с германцем бьёмся, а тута всё прахом!
Шумел, возмущался уже весь вагон, дымил самокрутками и папиросами.
Проводник, тучный, невозмутимый, с круглым лоснящимся лицом, на котором, отметил Каминский, ехидцей и непонятным злорадством посверкивали умные глазки неопределённого цвета, не то серые, не то зелёные, «водой налитые» — определил Григорий, — так этот проводник разъяснял гражданам обновлённой России:
— Тихо, любезные, без переживаний. Революция у нас. А при ей всяческие безобразия и возмущения спокойствий даже беспременны.
Напротив Григория Каминского сидела премиленькая барышня с личиком нежным и испуганным, прятала носик в заячий воротник длинного пальто, сшитого по комариной талии.
Рядом с ней здоровая баба в плисовой кацавейке кормила чёрным хлебом и репчатым луком двух сопливых ребятишек, которые все почёсывались. И вообще этот раздерганный старый вагон третьего класса до отказа был набит людом простым: солдатами, ехавшими с фронтов в родимые деревни — кто на короткий отпуск, кто насовсем, без руки ли, без ноги — словом, покалеченные во славу Отечества; мужиками и бабами тульских деревень, коих сорвали с мест революционные события, а может, какая иная нужда гнала в Москву, а кого в Питер — правду сыскать, управу на акцизного чиновника стребовать, а то и на урядника, который до февраля семнадцатого смотрел на тебя, как на пустое пространствие. А нынче — шалишь, братец! К народу образом своим ясным жизнь поворачивается. Детей тоже много в вагоне было — и чего их-то по свету таскать в такие лихие времена? — писк, крик, брань, а то и потасовка прямо на грязном, заплёванном полу в шелухе от семечек. Ещё были в вагоне люди мастеровые, в картузах и косоворотках из тёмного ситца, пожилые из них являли достоинство и неспешность, беседовали в общем гвалте голосами тихими, а молодые взглядом, прямо скажем, охальным, все миленькую барышню обсматривали: ты, мол, нос не очень-то вороти, в мех его не засовывай, нынче порядки революционные — все равны и перед законом, и перед етой... любовью.
А барышня чувствовала себя ужас как стеснённо, неловко, всё поглядывала, смущаясь и розовея, на Григория, ища сочувствия и понимания. Наконец сказала голоском тихим и робким, к нему обращаясь:
— Воздух... Абсолютно дышать нечем.
Каминский улыбнулся ей ободряюще и продекламировал довольно громко, так что и соседи некоторые вместе с барышней послушали:
Барышня — вот же беда с ней! — совсем застеснялась, прямо так бы и выпорхнула из вагона, да невозможно. Отвернулась к замызганному окну.
Григорий Каминский испытал некоторый конфуз: «Может, зря я?» Однако тут же подумал: «А так и надо! Чего на тех, кто есть хозяева жизни, смотреть с высоты своего мнимого превосходства?»
Опять Григорий стал слушать разговоры вокруг себя, чем и занимался всю долгую дорогу. Интересно, поучительно.
А говорили вокруг него больше всего о войне: скорей бы конец ей, окаянной, сколько народу перегубила, перекалечила, мужика от дома оторвала, от земли. А весна-то, вот она, не за горами, оглянуться не успеешь, как уже в поле выходи, а кто в нонешнюю весну выйдет, чтоб за плугом идти, борозду поднимать на своём наделе? Безмужичной русская деревня стала по войне этой, чтоб её вовеки не видать. А бабы, само собой, о своём: с каждым днём в лавках и магазинах всё пустеет да пустеет, за хлебом, сахаром, ситцем, керосином с ночи очереди выстраиваются. Когда это стряслось, чтоб очереди в Туле или Москве? То, бывало, приказчики силком к прилавку тянут, разлюбезные, только бы денежки при тебе были — любых товаров и съестного прямо-таки завались. А нынче? Купцы да торговые люди три шкуры дерут, морды злые, нахальные. И нет на них ни управы, ни Бога. Или вправду от революции псе это сподобилось? Вверх тормашками перевернулось?
«Не от революции, — хочется вмешаться в разговор Григорию Каминскому. — Война во всём виновата».
Однако помалкивает наш герой — до времени.
Наконец радостно прокричал паровоз, вагон дёрнуло, лязг прокатился под полом. Поплыла мимо окна деревянная платформа, по которой носилась, беззвучно лая на поезд, шустрая лохматенькая собачонка. Колеса стучали всё быстрее.
На привокзальной площади было людно, шумно, вереницей стояли легковые извозчики, покрикивали: «Куда изволите, ваше степенство? Доставим-с!» Смеркалось. Несло в лицо редким снежком. Из лошадиных ноздрей валил пар; клубы его вырывались также из двери трактира, когда распахивалась она настежь разудало. Зажглись тусклые фонари.
И всё же где-то близко была весна — то ли в густо-сиреневом небе, то ли в ветре, весёлом, порывистом, а может быть, в самом Григории Каминском бродили весенние молодые силы, некие чудотворные токи, предвестники перемен. Так уже бывало с ним на пороге нового ответственного дела: возбуждение, жажда деятельности, сердце бьётся сильнее.
Направляясь к извозчику — шинель по-прежнему распахнута, в руке потёртый саквояж с нехитрым скарбом, а главное, с важными бумагами, — он задержался у афишной круглой тумбы, прочитал с интересом и неким предчувствием, отчего как бы жаркая волна прокатилась по телу (крупные буквы ярко-фиолетовой краской, чуть заваливающиеся набок): «18 марта 1917 года. Новый театр. Первый женский митинг. Протянем руку помощи солдаткам! Выступить могут все желающие. Начало в 17 час. 30 мин.».
«Так-так... Очень интересно! — Каминский вынул из карманчика брюк часы-луковицу, щёлкнул крышкой. — Опаздываю, а надо бы успеть».
Извозчик оказался молодым парнем с разбойным заросшим лицом.
— Куда прикажете, господин студент?
— Посольская улица, дом Коврижина. Рядом с полицейской частью. Знаешь?
— Как не знать? — усмехнулся извозчик. — Мы все полицейские части в городе знаем. Положено.
— Вот и отлично! Гони, братец, опаздываю. За быструю езду прибавлю малость. Хотя, сам понимаешь, не миллионер.
Опять усмехнулся извозчик:
— Сторгуемся как-нибудь!
Пегий жеребец, тряхнув головой с подстриженной гривой, взял с места крупной рысью.
...Это был второй приезд Григория Каминского в Тулу. Первый пришёлся на лето прошлого года, когда в сей град пожаловал наш студент со специальным заданием Московского областного бюро РСДРП, ещё точнее — с заданием его большевистской фракции.
И в тот раз, и сейчас всё облегчалось одним обстоятельством: в Туле под именем Петра Игнатьевича Готлиевского проживал родной дядя Григория — Алексей Александрович Каминский, личность весьма и весьма примечательная, и о ней ещё будет рассказано подробно в своё время.
Сейчас же ограничимся вот чем. Причастен был к революционному делу Алексей Александрович, то бишь Пётр Игнатьевич, потому и проживал в городе оружейников под чужим именем. Притом вот ведь что произвёл, объявившись в Туле в 1915 году: возьми и сними квартиру в двухэтажном доме, неказистом правда, под самым боком полицейской части. Кому тут в голову придёт подозревать сапожника — а мастером сапожных дел был Алексей Александрович, простите, Пётр Игнатьевич, замечательным, — да ещё обременённого многими чадами и домочадцами, инвалида к тому же (деревянный протез вместо левой ноги), кому в голову ударит подозревать этого человека в деятельности, угрожающей императорским персонам и прочим, что пониже, властям предержащим? К тому же с иными полицейскими чинами в приятельстве: и поздороваются, на улице встретившись, поговорят о том о сём, а случается (нынче сказать надо: случалось), что и чарочку пропустят, уединившись в каморке, где Алексей Александрович, он же Пётр Игнатьевич, в каблуки-подковы медные гвозди ловко заколачивает.
Первый приезд в Тулу летом 1916 года был для Григория коротким, задание конкретное — узнать, что из себя представляет местная большевистская организация. И создать из рабочих оружейных заводов, прежде всего молодых, ячейку, на которую в скором будущем можно будет опереться. «А скорое будущее, — сказали ему тогда в Москве, — не за горами».