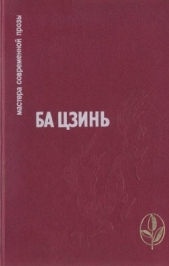Литературные зеркала
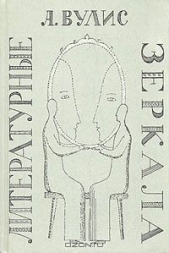
Литературные зеркала читать книгу онлайн
Фантастические таланты зеркала, способного творить чудеса в жизни и в искусстве (которое ведь тоже зеркало), отразила эта книга. В исследовательских, детективных сюжетах по мотивам Овидия и Шекспира, Стивенсона и Борхеса, Булгакова и Трифонова (а также великих художников Веласкеса и Ван Эйка, Латура и Серова, Дали и Магритта) раскрываются многие зеркальные тайны искусства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В своих декларациях Дали мог сколько угодно отмежевываться от Андре Бретона и от его манифеста; зато в своем творчестве, даже в тех картинах, что относились к позднему периоду его творчества, когда сюрреализм утратил былые позиции и, более того, сошел на нет, Дали сохранял верность поэтике сновидения, пытался сплавить в едином образе ночь и день, разум и грезу.
И теперь я хотел бы напомнить читателю одно уравнение, выведенное фольклористами и процитированное в свое время на страницах моей работы. Речь идет о формуле: зеркало — отражение в воде — тень — сновидение портрет. Предвидел ли мудрый собиратель русских народных сказок Афанасьев Фрейда и Дали или нет, он оказался прав. Да и мудрено ему было промахнуться, поскольку он смотрел не в будущее, а в прошлое, не помышляя ни о каких экстраполяциях и просто повествуя об исторически засвидетельствованных фактах. Но история, как известно, повторяется, возвращается на круги своя.
На полотнах Дали сновидение почти наглядно сведено к зеркалу, зеркало — к сновидению, то и другое — в конечном счете — к духу и к душе, из которой, как реки из горного озера, берут начало все составляющие фольклорного уравнения.
Опасаясь вызвать протесты со стороны тех искусствоведов, кто еще недавно был склонен приписывать Дали апологию бездуховности, вновь обращусь к интервью художника «Известиям». Сперва он произнес множество объяснений и оправданий на тему: зачем в его творческом наследии фигурируют «разъятые части человеческого лица — гипертрофированные губы, глаза, рот, уши, нос, на которые нужно было смотреть издали и сквозь огромное увеличительное стекло, чтобы создалось целостное восприятие весьма странного лица…». А завершил свою речь словами, какие не постыдился бы, возможно, принять в свой репертуар вполне законченный гуманист, притом — работающий в реалистической тональности: «Называйте это как хотите, но для меня это мертвое лицо было еще одной попыткой сказать о человеке то, чего я не мог сказать кистью: о его потерянности и раздвоенности, об отсутствии вкуса к жизни и неумении ощущать и видеть мир единым и неделимым. Это трагедия многих людей, и я не мог о ней молчать. Наверное, это все-таки был опять поиск, в котором я попытался нарочито рельефно высказаться по этой проблеме, хотя такая манера мне тоже в принципе не свойственна. В 30-х годах, когда я уподобил себя алхимику в живописи, а каждая картина была экспериментом и обретением опыта, я тоже желал нечто подобное. Помните мою „Венеру Милосскую“? Потом это прошло, и главным для меня навсегда стало человеческое лицо, классический рисунок. К примеру, „Сон Христофора Колумба“, „Ужин“, „Апофеоз доллара“, „Рынок рабов“, портрет Поля Элюара…»
Здесь важен для нас и сжатый в несколько строк очерк творческой деятельности Дали в авторском исполнении, авторская исповедь по поводу занимающих нас картин. Можно догадаться, что «Рынок рабов» — это псевдоним «Невольничьего рынка, или Исчезающего бюста Вольтера», типичный образец разночтений в переводах, что «Ужин» — это «Тайная вечеря», а «Венера Милосская» имеет прямую связь с рифмующимися женскими торсами на картине «Галлюцинирующий тореадор».
Выделим слова, подчеркивающие интерес художника к людям, к их раздвоенности, и жажду синтеза, стремление «видеть мир единым и неделимым».
Как?! Дали, чьи картины так часто даже в названиях оперируют понятием распада («Разложение памяти», и т. д., и т. п.), алчет цельности? Дали, жонглирующий полным ассортиментом цирка шапито, анотомического атласа, кабинета с наглядными пособиями по атомной физике, ищет человека? Работает под современного Диогена? Свежо предание…
А собственно, почему бы не поверить Дали? Он мастер эпатажа? Но ведь он мастер кисти в той же, если не большей, степени. Он обладает препараторскими замашками? Но препарирование является частным случаем анализа, а тот, в свою очередь, — подступом к синтезу!
Под маской своей живописи Дали представляется мне теоретиком, у которого одна цель: постичь природу искусства, найти философский камень творчества. Право, великая мечта! Такая же, как «великая мечта» Шкловского «собрать текст» по тому же самому принципу, по которому он «разбирается» [40].
Дали окружен событийными парадоксами, потому что парадокс — основная единица его мышления, прежде всего художественного — но не только. Парадокс — это двойничество мысли (мысль как бы неверна, но одновременно и верна), а Дали, если вдуматься в его натуру, проникнуть в святая святых его замыслов, — олицетворенное раздвоение личности, накладывающее яркий отпечаток на такие его полотна, как «Невольничий рынок» или «Галлюцинирующий тореадор». Это ведь не что иное, как живописные парадоксы!
Генезис художника Дали также пестрит парадоксами. Эти парадоксы вполне правомерно становятся объектом естественнонаучного изучения! Медики и физиологи отыскивают в биографии Дали весьма поучительные для нас моменты.
Доктор Румежьер (по-видимому, психоаналитик) пунктиром намечает контуры детства, обусловившего якобы многие чудачества Дали: «Так уж произошло, что за три года до рождения Дали другой маленький Дали, в возрасте семи лет, скончался от менингита. И опять же так произошло, что Дали был зеркальным отражением другого, они походили друг на друга, подобно близнецам. Несчастные родители, горячо преданные первому Дали, совершили грех, давши новому Дали имя умершего. В комнате родителей… заполненной таинственным присутствием и движением… в этом храме амбивалентности, высоко на стене, как на троне, пребывала большая фотография покойного Дали, двойника и близнеца по отношению к другому, то есть маленькому (и живому) Дали, который то и дело поглядывал на фотографию брата, зачарованный всем тем, что рассказывали о нем родители. И еще одно необычное совпадение: по соседству с покойным Дали, как бы доставляя ему компаньона, отец Дали, атеист, душою же сектант, фанатик и враг условностей, повесил еще одно изображение мертвеца, репродукцию веласкесовского распятого Христа…
И еще одна чреда невероятных и абсурдных совпадений: имя его отца-атеиста, Сальвадор, было также именем Христа (Сальвадор-спаситель.-А. В.), и его носили последовательно первый маленький Дали и второй. Разве не являлись эти четыре спасителя: умерший, принесший себя в жертву, приносящий жертву — некоторым излишеством для юного, свежего сознания, только-только распахнувшегося навстречу миру и жизни…
…Судьба маленького Сальвадора IV была подхвачена, как вихрем, игрой зеркал, миражей, отражений и иллюзий, связывавших четверку Сальвадоров, живых и мертвых… Среди этих покойников кем был он? Подставным лицом, подделкой, приговоренным к смерти, но еще не умершим? Конечно же, он не имел солидного, прочного реального значения, он был репликой, двойником, отсутствием; его существование казалось смазанным, нереальным, воображаемым, размягченным, и его нерешительные, двойственные, амбивалентные контуры растворялись в контурах внешнего мира…» [41]
«Тот же врач констатирует происшедшее в жизни Дали терапевтическое чудо. Гала! Когда она стала частью его бытия, воображение сменилось реальностью: Гала разбила вдруг злое зеркальце. Изнурительное путешествие Дали через страну видений завершилось. Дали увидел себя в Гале. Она вернула ему образ, с которым он мог отождествить самого себя, и это успокоило его нарциссические тенденции» [42].
Позволю себе сохранить в своем тексте приведенный отрывок, который я считаю справедливым. Зеркала, переклички, рефлексии Дали — наследие детства, зеркальное отражение детства.
Глава Х
«МАЗКАМИ СЛОВ ПО ПОЛОТНУ ВООБРАЖЕНЬЯ…»
Словесная живопись
Словесная живопись… Не очень изощренна и не очень изобретательна сия метафора, выродившаяся к нашему времени в заурядный штамп, в полуофициальный термин, достойный включения в литературоведческие словари и энциклопедии между «словацкой литературой» и «стансами». Но, как и другие научные формулировки, позаимствованные из поэтических оранжерей, это словосочетание предъявляет любопытному взгляду, наряду с ожидаемым и однозначным, целую стопку неожиданных, «нетерминологических» смыслов, перебирая да рассматривая которые мы будем радоваться очевидностям, задумываться над парадоксом, поражаться внезапным поворотам, трепетать перед тайной. Впрочем, последовательность и обусловленность реакций может быть иной: почему бы нам, например, не удивиться очевидности, а парадокс напротив — не поприветствовать аплодисментами? Дело, в конечном счете, идет об ином: какое содержание современный литературовед — допустим, создатель школьного учебника по изящной словесности или творец элегантной журнальной статьи — присваивает определению «словесная живопись»?