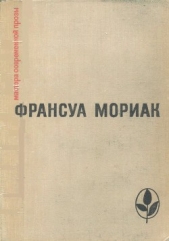He покоряться ночи... Художественная публицистика
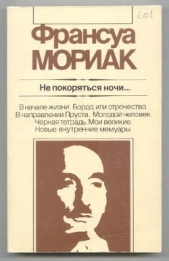
He покоряться ночи... Художественная публицистика читать книгу онлайн
В сборник публицистики Франсуа Мориака (1885—1970), подготовленный к 100-летию со дня рождения писателя, вошли его автобиографические произведения «В начале жизни», «Бордо, или Отрочество», афоризмы, дневники, знаменитая «Черная тетрадь», литературно-критические статьи.
Рекомендуется широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Г-н Мориак подписал приговор, согласно коему обрек себя навечно оставаться г-ном Мориаком», — написал недавно по поводу последней моей книги некий простодушный юный критик. Смертный приговор? Нет, обещающий жизнь или, вернее, шанс выжить в литературе. Ведь средство литературного спасения для автора — если он достоин спасения — в абсолютной невозможности для него быть кем-нибудь, кроме самого себя. Художник, который может быть не собою, а кем-то другим, который работает поочередно в манере то одного, то другого живописца или писателя, обречен заранее; как ему уцелеть во времени, если он не существует? Что до меня, то степень грозящей мне опасности такого рода я ощущаю в зависимости от того, какую роль играет в том или ином моем сочинении мой авторский произвол (порожденный самоограничением, боязнью вызвать негодование и т. п.).
Итак, по-моему, хорошим критиком можно назвать того, кто судит о писателе, отнюдь от него не требуя, чтобы тот был не самим собою, а кем-то другим, но вглядывается в исследуемое произведение, стараясь понять, сумел ли автор сохранить верность законам созданного им мира, пользовался ли он лишь собственными природными дарованиями, не прибегнул ли к определенным рецептам, к определенным модным приемам. Критик должен требовать прежде всего, чтобы романист не отрекался от самого себя, чтобы он не пыжился кому-то в подражание. На мой взгляд, не пристало критику прибегать к невыгодным сопоставлениям, дабы успешней разделаться с анализируемой книгой: ведь задача любого художника не в том, чтобы следовать по стопам великих мастеров, но в том, чтобы выявить полностью собственный скромный дар. Хороший критик — тот, кто требует от нас одного: чтобы каждый художник стремился до конца осуществить в творчестве свои возможности, не пытаясь выйти за их пределы. Нет такого универсального правила, которое позволяло бы критику выносить нам смертные приговоры. Хороший критик, изучая определенного автора, не станет искать пробный камень вне его творчества.
Когда книга не удалась — в том случае, если речь идет о настоящем писателе, — это случается всегда не потому, что писатель этот нарушил то или иное требование жанра (не существует никаких правил, с помощью коих можно было бы написать хороший роман), а потому, что он изменил тому внутреннему своду законов, который позволил Колетт написать «Шери» *, а Шардону — «Сентиментальные судьбы» *; и равным образом свод законов, созданный Колетт, не имеет ни малейшей ценности для Шардона; если бы Колетт отважилась окунуться в стихию этого романиста, она задохнулась бы. Пусть нас судят и пусть выносят приговор не в нашу пользу, если необходимо; но пусть судят нас по нашим собственным законам.
Еще несколько замечаний по поводу критики
Г-н Робер Бразийак * согласен со мною, что долг критика, исследующего произведение, — запретить себе уничтожать оное убийственными сравнениями с книгами писателей масштаба Бальзака или Толстого. Но, по его словам, критику никак не избежать такого рода сопоставлений, если он пытается определить место, которое какой-либо современный автор займет в литературе, поскольку, как полагает господин Бразийак, задача критика состоит в том, чтобы предугадать приговор потомства.
Я со своей стороны нахожу такого рода пророчества бесполезными и пустопорожними. В них нельзя усмотреть ничего, кроме школьной привычки: нам все кажется, что мы в классе. Ребенком я полагал, что Ламартин и Гюго занимают место ex aequo 1, Мюссе (Альфред) — на втором, Виньи (Альфред) — на третьем, Лапрад * (Виктор) и Делавинь * (Казимир) — на четвертом и так далее...
1 На одном и том же уровне (лат.).
Да, но кто же те писатели, которые сыграли в нашей жизни самую существенную роль, кто из писателей и поныне помогает нам жить? Где они, спутники нашей молодости, оказавшие на нас влияние, какого не оказал ни один из живых наших друзей? Первые же имена, что приходят нам на память, принадлежат писателям, не поддающимся классификации.
Какое место, например, отвести Морису де Герену, отроку, затерявшемуся среди оракулов романтизма? Когда после его смерти Жорж Санд посвятила Герену очерк, напечатанный в «Ревю де де монд», отец Лакордер * удивился до крайности: он знал Мориса, то был чрезвычайно изысканный молодой человек, по его словам, но и только, в глазах великого доминиканца он был самым незначительным из всех учеников, которых Ламенне * привлек в Ла-Шене. Два стихотворения в прозе, личный дневник, несколько юношеских писем — и в самом деле, нечем как будто блеснуть среди такого множества произведений высокой литературы, рожденных тою эпохой. А меж тем сколько нас — тех, кто сейчас, в тысяча девятьсот тридцать шестом году, любит Мориса, тех, кому он близок, тех, кто слышит его дыханье у себя в комнате, перечитывая в сотый раз ту или иную страницу из его дневника?
Да и Сент-Бёв был, пожалуй, вправе отвести «Цветам зла» место за пределами нормальной литературы, где-то на окраине литературной Камчатки. Томик Бодлера нечего и сравнивать с громадным зданием, возведенным Гюго, — такое сравнение раздавило бы Бодлера. И Артюру Рембо не найдется места в официальном списке «лучших»... Случайность ли то, что все имена «исключений из правила», приходящие мне на ум, — имена как раз тех поэтов, которые занимают в учебниках литературы место ничтожное либо никакое, несопоставимое с тем, которое занимают они в сердцах немногих французов, еще интересующихся поэзией?
Стало быть, для критика сущность вопроса заключается не в том, чтобы установить, равнозначен ли данный автор Бальзаку или Толстому, а в том, чтобы выяснить, существует ли этот автор как некая самостоятельная «планета», образует ли он отдельный мир, доступный какому-то числу людей, родной им мир, который они предпочитают всем остальным.
Потомство классифицирует «светила» по их значимости. Но есть величие и величие: если Гюго несравненно более велик, чем Рембо, то влияние Рембо на тех, кто его любит, куда сильнее, чем влияние Гюго на его поклонников. Чья внутренняя жизнь претерпела хоть какие-то изменения под воздействием Гюго? А вот «Озарения» и «Сквозь ад» позволили юноше Клоделю почти физически ощутить мир невидимого.
Что проку в попытках предсказать иерархию, которую установит потомство и которая к тому же никогда не станет окончательной? Век спустя после смерти писателя вокруг него еще ведутся споры. Зато за каждым из нас — в меру нашей одаренности критическим умом — сохраняется право изучить произведение литературы, как изучают континент, исследовать его фауну, флору, пейзажи, атмосферу; выяснить, пригоден ли этот континент для обитания, есть ли вероятие, что там осядут поселенцы — в смысле духовном, — что они выживут там за счет природных богатств континента и обнаружат новые его сокровища.
Это последнее обстоятельство имеет решающее значение: иные величайшие творения, как, например, творения Ламартина и Гюго, сразу же открывают нам все богатства, которыми располагают; французская литература составила опись этих богатств и раз и навсегда внесла их в свою сокровищницу. Но есть творения, с виду куда более скромные и ограниченные, которые поддаются инвентаризации лишь мало-помалу. Они богаты залежами, которые долго таятся под спудом. Хороший критик подобен искателю источников: исследуя любимую книгу, он открывает у нас под ногами родники, неведомые нам прежде. И пусть они немноговодны, пусть даже текут с перебоями, что нам до того, если они дарят нам куда больше свежести, чем грандиозные официальные каскады?
Будь мне позволено говорить свободно о работах моих современников, я попытался бы разграничить их на те, которые представляются мне «мирами, где жизнь возможна», и те, которые я назвал бы искусственными «светилами», произведениями, собранными из разнородных элементов и при всем внешнем блеске обреченными кончить на свалке ржавого железа. И надо бы отвести особое место тем, которым, возможно, и суждена долговечность, но лишь как музейным диковинам, мимо которых люди проходят, даже не помышляя о том, чтобы отвести им какое-то место в тайной драме собственной жизни.
![Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)