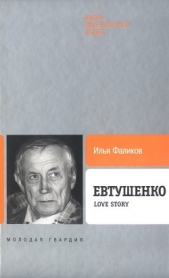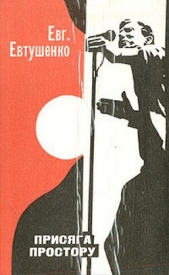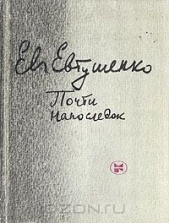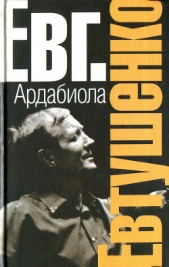Талант есть чудо неслучайное
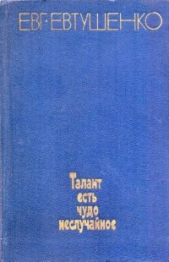
Талант есть чудо неслучайное читать книгу онлайн
Евгений Евтушенко, известный советский поэт, впервые издает сборник своей критической прозы. Последние годы Евг. Евтушенко, сохраняя присущую его таланту поэтическую активность, все чаще выступает в печати и как критик. В критической прозе поэта проявился его общественный темперамент, она порой открыто публицистична и в то же время образна, эмоциональна и поэтична.Евг. Евтушенко прежде всего поэт, поэтому, вполне естественно, большинство его статей посвящено поэзии, но говорит он и о кино, и о прозе, и о музыке (о Шостаковиче, экранизации «Степи» Чехова, актрисе Чуриковой).В книге читатель найдет статьи о поэтах — Пушкине и Некрасове, Маяковском и Неруде, Твардовском и Цветаевой, Антокольском и Смелякове, Кирсанове и Самойлове, С. Чиковани и Винокурове, Вознесенском и Межирове, Геворге Эмине и Кушнере, о прозаиках — Хемингуэе, Маркесе, Распутине, Конецком.Главная мысль, объединяющая эти статьи, — идея долга и ответственности таланта перед своим временем, народом, человечеством.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Есть такое глазное заболевание — «сужение поля зрения». Это заболевание, к
сожалению, распространено сейчас в поэзии, и не только молодой. Сужение
289
поля зрения приводит к тому, что мир попадает в стихи только крошечными
кусочками, раздробленно, без чувства взаимосцепляемости явлений. Боязнь гражданст-
венности есть слагаемое многих болезней: боязни себя, боязни сильных чувств, боязни
острых, ножевых тем, боязни мыслей, боязни поисков новой формы для нового
содержания. Вместе с тем сумма этих боязней иногда сочетается с беззастенчивой
боязнью быть незамеченным, толкающей не на построение храмов Дианы Эфесской, а
на закомплексованный литературный геро-стратизм. Молодой поэт может добиться
признания читателей только собственными стихами, но никогда — попыткой
поджигательства чужих репутаций. Зависть к чужому успеху превращается в того
самого лисенка, который выел внутренности самонадеянного юного спартанца,
прятавшего его за пазухой.
Похвально то, что многие молодые поэты непосредственно обращаются к России, к
ее истории, ее традициям. Однако высокое слово «Россия» в ряде стихов звучит
внесоциально и почему-то не сочетается с широким интернациональным чувством.
Этого никогда не было в большой русской литературе. Русская литература всегда была
воинствующе интернационалистична. И я хотел бы пожелать молодым писателям:
храня славные традиции русской литературы, не забывать об одной из ее самых святых
традиций — традиции интернационализма.
Закончить я хочу цитатой из Тургенева: «У нас еще господствует ложное мнение,
что тот-де народный писатель, кто говорит народным язычком, подделывается под
русские шуточки, часто изъявляет в своих сочинениях горячую любовь к родине и
глубочайшее презрение к иностранцам... Но мы не так понимаем слово «народный». В
наших глазах тот заслуживает это название, кто, по особому ли дару природы,
вследствие ли многотревожной и разнообразной жизни, как бы вторично сделался
русским, проникнулся весь сущностью своего народа...»
1977
БОЛЬШОЕ И КРОШЕЧНОЕ
Б
ш лок в письме к С.А.Богомолову с тактично приглушенной иронией посоветовал:
«Вы не думайте нарочито о «крошечном», думайте о большом. Тогда, может быть,
выйдет подлинное, хотя бы и крошечное».
Заметим, что Блок писал это в то время, когда часть писателей под влиянием
поверхностно понятого образа Заратустры уходила в эгоцентрические абстракции,
пытаясь выглядеть сверхчеловеками и стесняясь быть просто человеками. Бульварным
апофеозом этого суперменизма был роман Арцыбашева «Санин», но гигантоманией
побаливали и более одаренные художники: «Я гений — Игорь Северянин». Блок не
относил, как мы имеем смелость догадываться, гигантоманию к понятию «большого» в
искусстве — гигантомания всегда не что иное, как жирное дитя худосочного комплекса
неполноценности. Ахматова впоследствии мудро усмехнулась уголками губ: «Когда б
вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» Но нарочито «крошечное»
есть такое же воплощение неполноценности, как и нарочито «большое» — то есть то
уничижение, которое паче гордости.
Я начал свою литературную жизнь в то время, когда наше искусство было больно
гигантоманией. Пышные фильмы с многотысячными банкетами на фоне электро-
станций, Волгодонские или целинные поэтические циклы, построенные по принципу
пластилинового монумента-лнзма. Я был дитя своего времени и болел его болез
152
нями вместе с ним, — слава богу, что корь гигантомании перенес в литературном
младенчестве, а не в зрелости, хотя и бывали затянувшиеся осложнения. Но мне
кажется, что в последние годы наше искусство вообще и поэзия в частности заболели
другой, не менее чреватой осложнениями болезнью, а именно «крошечностыо»,
поэтому совет Блока «думать о большом» приобретает сейчас оттенок вопиющей
насущности. В искусстве появилась некая боязнь исторического пространства,
пространства духовного. К сожалению, некоторые критики, вместо того чтобы быть
вдумчивыми лечащими врачами, помогающими избавиться от этой болезни,
поддерживают крошечность намерений. Попытка исподволь заменить Пушкина Фетом
на знамени русской поэзии, конечно, несостоятельна, но в то же время опасна,
особенно для морально неустоявшихся умов поэтической молодежи. Во многих
печатающихся сейчас стихах молодых разлита какая-то странноватая помещичья
благостность, попахивает гераневым мещанским воздушком подозрительного
спокойствия совести — этакая псевдогармония, ибо настоящая гармония включает в
себя бурю, внутри которой и есть величие истинного спокойствия духа, когда «встаешь
и говоришь векам, истории и мирозданью». Ощущается подозрительно ранняя
душевная устроенность или стремление к этой устроенности при помощи строк,
написанных столбиками. А как же насчет «позорного благоразумия»? Позорное
благоразумие и есть основа духовной крошечности. Крошечность иногда
прикидывается гражданственностью. Наши газеты еще не проявляют должной не-
терпимости к так называемым «датским» стихам — наспех настряпанным к
определенным датам. За многими из этих дат стоят великие по значению социальные
катаклизмы и торжественно-трагедийные события, но это величие, могущее быть
источником глубоких философских обобщений, порой сводится в деловитых
стихотворных упражнениях к уровню бодрых застольных тостов. Но с какой поры
жанр тостов стал называться гражданственностью? Социалистическое содержание
таких виршей равно нулю, несмотря на все необходимые в таких случаях политические
заклинания. Между халтурным послереволюционным стишком по поводу 1 Мая или 7
Ноября и сусальным рождественским стишком
152
в дореволюционной «Ниве» никакой моральной разницы: их делает близнецами их
общая мать — духовная крошечность. Почему великое становится предметом
эксплуатации крошечностыо? Чем ответственней тема, тем ответственней должно быть
и отношение к ней. Но возьмем великие стройки — например, БАМ. Наша молодежь,
рабочие, строители, инженеры делают действительно большое дело, иногда в
нечеловечески трудных обстоятельствах. Почему же на фоне этих трудностей начала
уже лихо пританцовывать песенно-эстрад-ная, бравурная легковесность — то есть
крошечность отношения к великим делам?
Третий вид крошечности надменно противопоставляет себя и первому ее,
элегически-классицистическому виду, и второму — спекулятивно-ангажированному.
Третий вид крошечности — это формализм, не догадывающийся о том, что два
предыдущих вида тоже насквозь морально формалистичны и не что иное, как его
родственники по равнодушному отношению к людям, ко времени. Если элегический
вид ходит в шелковом маниловском халате, из-под которого иногда неподобающе
торчат лапти «алярюса», а второй вид — в псевдокомсомольской ковбойке с
засученными рукавами, то третий вид—в джинсах с обязательной бахромой метафор.
Рваный ритм, якобы отображающий атомный апокалипсис. Устрашающие неологизмы.
Все предметы в мире существуют лишь для того, чтобы сравнить их друг с другом.
Коктейль стран, сбитый в шейкере вместе с колотыми кусками айсбергового
равнодушия. А равнодушие — уже крошечность. Я это все пишу не для того, чтобы
персонифицировать тот или иной вид крошечности, не для того, чтобы любители наме-
ков лихорадочно подставляли то или другое имя. Чтобы облегчить им задачу, скажу
так: валите все на меня — повинен и в первом, и во втором, и в третьем. Я люблю нашу
великую поэзию и не хочу, чтобы мы были крошечными хотя бы иногда, хотя бы в чем-
то. Но добавлю одно.
В западной поэзии было и есть немало значительных поэтов «герметического»