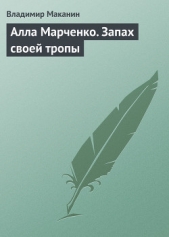Татуировка с тризубом (ЛП)
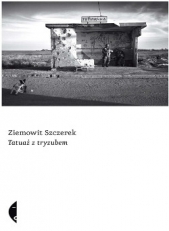
Татуировка с тризубом (ЛП) читать книгу онлайн
трана, находящаяся в состоянии забуксовавшей войны, не в состоянии провести реформы, но одновременно потихоньку формирует свою новую идентичность. Украина после Майдана. Именно это время описывает польский журналист и писатель Земовит Щерек в своей новой книге «Татуировка с трезубцем».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда-то, при Союзе, рассказывал он, оно было лучше. Можно было посмотреть мир. Ездил, рассказывал он, повсюду. Во Львов. И даже в Ровно. Сам он был инженером, так его возили. В командировки, на какие-то контроли. А сейчас… Он махнул рукой. Ничего, одна только лавка с кофе и лавка с кофе.
Он налил мне второй стаканчик, сказал, что за счет заведения. Проклинал русских и хвалил Союз. Потом пришли другие клиенты. Они заказывали кофе, и он им его наливал, в белые, пластмассовые стаканчик. И все говорили о том, что при Союзе было лучше. И проклинали русских.
В Турке висели плакаты, сообщающие о смерти Романа Мотычака. Сорок пять лет, погиб в зоне АТО. На черно-белой фотографии у Мотычака было серьезное лицо, и он не знал толком, как позировать: что сделать с руками, какое надеть выражение лица. Так что его снимок был немного похож на фотографии индейцев, сделанные на переломе XIX и ХХ веков. Еще на плакате было написано, что он "принимал активное участие в Революции Достоинства" в качестве члена 29-1 Бойковской Сотни. Жена осталась одна с двумя детьми. Нужна помощь.
Мотычак жил в селе Лимна, по-польски Ломна. В двух километрах от польской границы. С другой стороны были Бещадское и Лютовское поселения, которые, о чем мало кто знает, были присоединены к Польше лишь в 1951 году, а в течение этих нескольких лет в составе Украинской ССР они назывались село Шевченко. До Донбасса отсюда было более тысячи километров. Столько же, сколько до Рима, до Швейцарии, до французской или датской границы. А до Польши – два. Когда я выехал под горку и по грунтовой дороге ехал в сторону Лимны, то ловил польское радио. Но той Польши, которая ведь лежала сразу же за горкой – вообще здесь не чувствовалось. Не было чувства, что через миг начинается иной мир, хотя четко было заметно – один мир заканчивается.
Заканчивался он красиво. Холмы были зеленые, они приносили облегчение. Этот здесь конец света приносил облегчение. Тем, что свет здесь заканчивался. Что это уже и все. Дома были деревянные, а ограды, чтобы облегчить себе, тянулись к дому. Но даже здесь, даже на самом конце света, нельзя было отдохнуть от народа. От Украины. Даже здесь, все, что было можно, красилось в желто-синий цвет, пускай то были серые сараи и мастерские.
Село было длинным, церквей несколько. В начале, в средине и в конце. Чтобы каждому хватило. Остановился я возле последней, потому что за ней, на холмике, я видел кладбище.
Я вышел из машины, стараясь не раздражать стада гусей, которые бросились на меня, вытягивая шеи. Зелень, протоптанные дорожки, высохшая грязь, древесина и холмы. Я все это знал. Из своего, было так или не было, дико-европейского подсознания, из детства – не знаю. Во всяком случае, Лимна напоминала мне детство.
Деревянная церковь была другая. Немного чужая, но не до конца. Сам я рос в таких местах, где церквушки не пахли деревом, а пахло холодным запахом костёльного камня и штукатурки. Но все остальное было точно таким же. Точно такие же узенькие тропки между купами травы, такой зеленой, что на глаза набегали слезы. Такой же желтый песок, перемешанный с куриным дерьмом, словно с пластилином. Точно такие же ограды. Деревянные церкви в моем мире практически исключительно существовали в виде музеев, как часть выставки скансенов, на которую меня водили ребенком, и когда я видел их действующими, вот так, нормально – мне это казалось чем-то неестественным. Здесь, перед церквушкой сидел какой-то здоровый тип и игрался ключами, он был похож на чудака или даже юродивого. Я спросил священника. Мужик указал в сторону холма. А там шли похороны. Как раз начали петь псалмы, и пение неслось над полями, над холмами, и я даже представлял, что какие-то клочки этих псалмов летят над польскими Лютовисками, где, в свою очередь, в баре ишрает что-то из Кайи и Бреговича, или Мунек Стащик поет про "зеленый Жолибуж, ёбаный Жолибуж" [145].
Я кивнул головой мужчине с ключами и пошел в сторону кладбища. При этом я старался не обращать на себя внимания, но из-за заборов меня облаяли собаки, и участники похорон тоже поглядывали на меня. Мне было стыдно, что я отвлекаю собой их внимание от покойника и пытался сжаться, исчезнуть, сделаться невидимым, насколько можно – но с полдороги возвращаться смысла не было. У входа я встретил какую-то старушечку и шепотом спросил у нее, где лежит Роман Мотычак. Она указала мне могилу, покрытую желто-синими цветами и флагами. Собственно говоря, к ней я мог бы уже и не подходить. Мне просто хотелось увидеть, где покоится. Как покоится. И как это оно: покоиться на самом конце света после того, как ты погиб за его другой конец. Как это: жить столь близко с линией смены реальностей, потому что мне как-то не давала покоя мысль, что если бы в том 1951 году, в процессе изменения границы с СССР, у кого-то над картой дрогнула рука, то Роман Мотычак мог бы стать, допустим, польским эмигрантом в Лондоне, искать счастья в Варшаве, в Жешове, возможно – в Кросно. Или, попросту, в Ломной. И Донбасс был бы для него таким же далеким миром, как Момбаса. Как Лимна для жителей Лютовиск. Как это оно: позволить себя убить за что-то, что является частью громадного представления, ибо все национальные конструкции являются громадными представлениями, иллюзиями, которые в какой-то момент становятся реальностью настолько очевидной, настолько материальной – словно пуля, которая во имя этих иллюзий летит и разрывает кожу, кости, мышцы, внутренние органы.
Ну а раз я уже так далеко дошел – глупо было просто возвращаться. Все поглядывали на меня. И вообще, как это так – подойти под ворота кладбища, спросить: кто где лежит – и вернуться. Я чувствовал себя как-то несерьезно, потому что в глубине души понятия не имел, чего мне было нужно от этого Мотычака. Если бы меня кто-то спросил – я не был бы в состоянии ответить.
Только никто и не спрашивал. Я пошел к нему на могилу. Постоял немного, не зная, что делать с руками, чувствуя на себе взгляды пришедших на похороны селян, поглядел на зеленые, какие же зеленые холмы по сторонам. Я задумался, а за которым из них Лютовиска, после чего вернулся к машине, провожаемый взглядами, пением псалмов, лаем собак и шипением гусей.
- Получил он прямо под пуленепробиваемый жилет, - рассказывал мне мужик, которого я взял по дороге. - Дурацкая смерть.
Какое-то время мы молчали. У мужчины было удлиненное, светлое лицо и светлые волосы. Одет он был по-спортивному. Родом был из соседнего села. Работал он на какую-то фирму, то ли газовую, то ли электрическую: списывал показания счетчиков. Вот он и крутился по карпатским деревушкам – и записывал показания. По идее, фирма должна была обеспечить ему транспорт или хотя бы велосипед – но не обеспечила, вот он и ездил на попутках. А тут еще ногу недавно подвернул, и потому прихрамывал. Романа Мотычака он знал. Говорил, что вместе были на Майдане.
- Раньше Мотычак автобус водил, - рассказывал он. – В армии служил… всегда серьезный такой был. Редко улыбался.
Когда он замолчал, мы долгое время ехали молча. Я только объезжал ямы на дороге. Чтобы прервать тишину, я спросил: как он считает, изменилось ли что-нибудь после Майдана?
- Да нихрена не изменилось, - ответил мужчина. – Бедность, коррупция, все, что и было. Но если надо, то выйдем еще раз. И еще раз. И еще. И уже до результата.
- А если этого не хватит? – вырвалось у меня.
Мужик поглядел в мою сторону.
- В американских фильмах, - сказал он с улыбкой, - всегда говорят: "you can make it". Так как же может не удаться, как может этого не хватить?...
Я тоже улыбнулся. Высадил его на перекрестке и поехал дальше, в сторону Турки.
От границы я удалялся, так что польское радио было слышно все слабее.