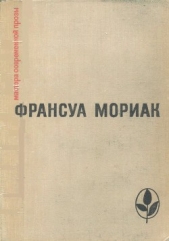He покоряться ночи... Художественная публицистика
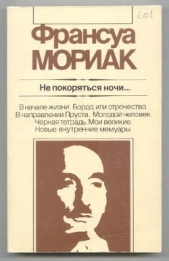
He покоряться ночи... Художественная публицистика читать книгу онлайн
В сборник публицистики Франсуа Мориака (1885—1970), подготовленный к 100-летию со дня рождения писателя, вошли его автобиографические произведения «В начале жизни», «Бордо, или Отрочество», афоризмы, дневники, знаменитая «Черная тетрадь», литературно-критические статьи.
Рекомендуется широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Поймите, сударь, в Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Берлине, Париже я часто смотрела из глубины ложи сквозь туманный полумрак зала на бесчисленную толпу, околдованную моим лицом, и всюду мне непременно казалось, что это одна и та же толпа, одно и то же укрощенное чудовище, над которым поднимается к моему лицу фимиам тысяч сигарет. Да, к моему бедному лицу, но не такому, как на самом деле, потому что оно подурнело от слез, поцелуев и следов тех легких когтей, которыми наималейшая скорбь бороздит смертное чело, даже если оно прекрасней и любимей всех лиц в мире.
Толпа не знает моего подлинного лица, а я его забыла: чтобы явить людям небывалое чудо — великолепие моих черт, которое они обожают на экране, мне пришлось исказить облик, данный мне с детства богом. Почем вы знаете, не изменила ли я рисунок своих бровей и мои ли собственные ресницы затеняют мой взгляд? Юная некогда плоть не дышит больше теплом, не сверкает сквозь маски, кремы и грим. Я разрушила самое себя, пожертвовала собой ради идеала красоты, который был бы способен утолять миллионы обманутых вожделений и безнадежных ожиданий. Я — та, кем вовеки не будет обладать вон тот подросток, та, кого целые полстолетия искал вон тот старик, кем хотела бы стать вон эта женщина, чтобы удержать изменившего ей мужчину. Теперь понимаете, почему я прячусь? Из жалости к ним и еще потому, что не хочу, чтобы они знали: меня не существует.
Так говорила Грета Гарбо. А я в эту смутную пору «меж волка и собаки» видел или, вернее, угадывал ее дивные, хотя и похожие на множество других формы. То, что не скрывалось от меня под спускавшейся почти до губ вуалеткой, исчезало под слоем грунта и красок, покрывающего в наши дни всю женскую половину человечества. Я думал, как странно, что кино требует от своих звезд излишеств в косметике для того, чтобы показать нам чистую сущность их лика. Таинственный фильтр экрана пропускает через себя лишь то, что есть непреходящего в этом носе или тех губах. Быть может, притирания и кремы лишь средство, чтобы отсеивать все эфемерное? Мысль, которой руководствовался создатель, творя подобное лицо, проступает в его небесно простых контурах, очищенных от всякой скверны и приуготованных для вечности. Было бы удивительно, если бы толпа во всех концах мира не испытывала соблазна упасть на колени перед таким откровением, и не делает она этого лишь потому, что экран, к несчастью, улавливает, выделяет и подчеркивает для каждого из нас то, что есть наихудшего в чрезмерно прекрасном взоре.
Волшебные глаза Греты Гарбо! Хилый болезненный юноша, затерянный в неисчислимой толпе, одиноко переживает порождаемое ими безмерное волнение. Эта женщина, реальная и недоступная, пробуждает все мыслимые желания. Она безнаказанно улыбается, приоткрывает рот, вытягивает шею, опускает веки. Вот она, живая и досягаемая для миллионов мужчин, но если один из них в припадке безумия ринется к ней, он, как обманутый финтой * бык, наткнется лишь на тряпку, растянутую в пространстве, и обнимет пустоту! Быть может, Грете Гарбо известно, что как-то вечером в Филадельфии, Буэнос-Айресе или Мельбурне один из ее безвестных любовников внезапно вскочил, проложил себе дорогу сквозь разъяренную массу тел, прошел по толпе, как по морю, простирая руки к обожаемому, близкому и неуловимому видению, и ударил головой в лопнувший экран? Странная сцена, напоминающая моему сердцу фразу Рембо: «Потом, о отчаяние, стена незаметно превратилась в тень деревьев, и я погрузился в любовную тоску ночи».
— Да, — тихо продолжала она, — я разнуздала это безумие и боюсь его, так что скрываться меня вынуждает еще и страх: я — женщина, которая изменила миллионам мужчин, я неверна всему человечеству. Что, если из этого людского прилива, из этого океана плоти, затапливающего днем и ночью гроты кинематографов и ежечасно обновляющегося, вынырнет молодой человек, который решил отомстить за себя и всех своих скорбных собратьев?
— Нет, конечно, — успокаивая себя, продолжала она после паузы, — он не узнает меня и не осмелится ударить женщину, неотличимую от прочих. Он увидит, что в жизни я вовсе не Грета Гарбо и не похожа на кинозвезду из журналов.
Она смолкла: ее магический взгляд, устремленный на меня, молил хоть о едином слове сочувствия, и я подумал, что, действительно, только кино предает нас во власть извечного врага — женщины, освобожденной от всего, что в обычной жизни ослабляет ее, обезоруживает, делает менее опасной. Только в кино мы до конца постигаем строки Виньи:
Так нежен голос твой, язвящий так глубоко,
Так красота грозна, так взор порой жесток,
Что в Песни Песней сам премудрый царь Востока
Недаром сильною, как смерть, тебя нарек 1.
1 А. де Виньи. Дом пастуха.
— Вероятно, — отозвался я, — вы источник многих преступлений. Слишком восприимчивому молодому человеку, который прожил целый вечер под вашим взглядом, трудно наутро возвращаться к унылому повседневному долгу. Ваше лицо в фильмах сообщает почти безграничную привлекательность мерзкой роскоши. Самое низменное, что есть на свете и что лживо именуется «красивой жизнью», короче разгул, приобретает благодаря вашей красоте всемогущее обаяние, и одинокий нищий парижский студент, разом забыв философов, поэтов и прочих своих идолов, начинает мечтать о том, как он, покачивая атлетическими плечами, входит в ресторан для богатых следом за женщиной, чье ошеломляющее имя шепотом передается от столика к столику: «Грета Гарбо! Это Грета Гарбо!»
Тут я увидел, как, съежившись в темноте, она склонила униженное чело. Свет лампы озарял ее бледно-золотые волосы.
— Нет, — добавил я, — не опускайте голову. В истоках этого прилива, этой волны обожания и восхищения, которая захлестывает ваш бесконечно повторяемый образ, нет ничего нечистого. Миллионы сердец, тянущихся к вам, инстинктивно понимают, что истина есть не что-то отвлеченное, а, напротив, телесное и живое, что ее можно отыскать, встретить, призвать, ибо она всегда воплощена и у нее, как у вас, есть лицо, взгляд, голос, сердце и единственное имя среди других имен человеческих. «...Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши», * — свидетельствует святой Иоанн.
Вы занимаете Его место, ваше лицо маскирует Его отсутствие; вы заместительница, повторение, отблеск. Вы обманываете жажду, которая собирает перед экранами несчастное стадо людей, изголодавшихся по красоте...
О красота этого лица, этого лика, который мог бы явиться нам (сколько раз я мечтал об этом!), который мог бы каждый вечер представать очарованным толпам на полотне, натянутом во всех кинематографах мира!
Творчество и человек
Неожиданное признание, приходящее к писателю чуть ли не на завтра после смерти, — удивительное зрелище, и недавно мы стали его очевидцами. До последней минуты Анны де Ноай * еще можно было сомневаться если уж не в ее значении для французской поэзии, то в ее ранге среди наших корифеев. Но поэт-однодневка исчезает, как туман; за вечными творениями открываются вершины. В бренном теле Анны де Ноай таился целый мир.
Это внезапное чудо особенно заметно, когда художник причастен к высшему свету и подчинен его ритуалу, когда он — ваш приятель, которого запросто называют Марселем и считают хорошим малым, хотя нелегким человеком и порядочным сплетником, или когда это женщина, которую знали просто как Анну и которая вечно опаздывала, так что, если ее приглашали на обед, общество садилось за стол не раньше половины десятого вечера. Но вот они умирают, и сразу же «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, равно как стихи графини де Ноай занимают во всемирной литературе место, которого уже никогда не утратят.
«Живых не чтут», — писала, если не ошибаюсь, г-жа де Ноай. Да, не чтут, особенно когда они принадлежат к определенному кругу, законы которого более или менее принимают и людей которого, считающих себя ровней им, раздражают или забавляют тем сильнее, чем дальше отстоят от них. И по правде сказать, в социальном плане эти люди, действительно, выглядят ровней им, пока со смертного ложа человека, чьи остроты еще вчера смешили окружающих, не восходит светило, навечно занимающее свое место среди созвездий, что носят имена наших любимых поэтов.
![Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)