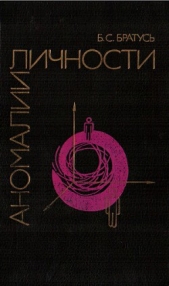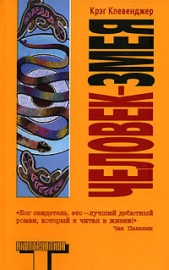След: Философия. История. Современность

След: Философия. История. Современность читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нобелевская премия была ему не нужна. Его выставили за зеркальную витрину. Тихо съездить в тихую Швецию и вернуться нельзя было. Нарушили порядок пастернаковского существования. Все его поведение вокруг истории с премией объясняется одним только желанием этот порядок восстановить, вернуться к себе, в себя. Кто-то, в октябре 58-го «разоблачая» Пастернака, рассказал, как в 1945 году его наградили медалью «За доблестный труд в Отечественной войне», а Пастернак за этой медалью не пошел: «Ах, медаль… Я пришлю, может быть, сына…» Совершенно то же самое было у него и с Нобелевской премией. Он в ней не нуждался. Он жаждал воли и покоя. Но советская власть была куда шумнее чистопольских соседей.
Конечно, Пастернак хотел напечатать «Доктора Живаго», но «стратегия и тактика» рассчитали бы это действие по-другому. С этой точки зрения была сделана «глупость». Можно также назвать это актом внутренней свободы. Не осуждение (с упомянутой точки зрения) и не восхищение должен вызвать поступок Пастернака — а только признание его немыслимой среди людей естественности.
Пастернак не умел, не мог и не хотел рассчитывать, прикидывать варианты, строить предположения. Все эти умения необходимы жителю земли, но ведь он-то был, по счастливому (впрочем, апокрифическому) выражению тов. Сталина, — небожителем. Нужно сделать очень небольшое усилие, чтобы понять: в этом была не слабость Пастернака, а сила его. Даниил во рву львином. Сделать это усилие и прийти к этому пониманию очень помогает книга Ивинской. И это должно быть ей зачтено.
Раньше мы могли только догадываться об этом. Шкловский писал о нем: «Счастливый человек… Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим». Это верная формула, и о ее верности мы могли судить по стихам Пастернака. Основной, если не единственный, мотив этих стихов — счастье бытия. Кому, казалось бы, могло это помешать? Оказалось — мешало. Оказалось, что та жизнь, которая осталась за его стихами, — жизнь, протекавшая не в природе (ибо природа и стихи Пастернака — одно), а в истории, — эта жизнь не была счастливой. Судьба Пастернака показывает, что пути бытия и истории разошлись.
Винили Пастернака в том, что он уходил от истории. Такие разговоры начались задолго до «Доктора Живаго». Корнелий Зелинский называл его «гениальный дачник». Потом эпитет, разумеется, отпал; стали говорить о «взбесившемся обывателе». Да, история настигла его и на «даче». Это и называется тоталитаризм. Обобществлено было все, «частная жизнь» не задалась. А мы думали, читая его стихи, что она возможна. И это помогало жить.
Высшим счастьем казалось, что человек в 1937, 41, 47-м — оставался жив, как аббат Сийес. И даже получал гонорары за переводы Гете и Шекспира. И даже жил в собственном доме, ездил в Москву на ранних поездах. Создавалось впечатление, что это вот и есть та жизнь в тайне, вне зеркального блеска витрин, о которой позднее сказал Пастернак.
Все это было не так, и Пастернак недаром переводил Шекспира.
Он не уходил от истории. В «Докторе Живаго» он посмотрел ей в лицо и сказал все, что думает.
Мы узнали у Пастернака, что поэзия — это проза. Но при этом он всю жизнь мечтал о прозе как таковой, о жанре. Говорил Цветаевой, еще до эмиграции, о романе «как у Бальзака» — с любовью и героиней. «Детство Люверс» и «Повесть» — очень серьезные прозаические заявки. А к концу 30-х годов относятся те фрагменты, которые уже позволяют говорить о начавшейся работе над «Живаго».
Интересно отметить дату первого появления этих фрагментов в печати — 1937. Вспомним, что разрыв Пастернака с эпохой очень точно им датирован 36-м годом. Социалистическая реальность подошла вплотную. Надежды исчезли, и, как всегда в таких случаях, пробудились воспоминания.
Реальному образу жизни Пастернак задумал противопоставить образ идеальный, в данном случае — уже ушедший в прошлое. Психологически — прошлое всегда есть резервуар красоты. Пастернак попытался сохранить поэтический образ революции. При этом оказалось, что он попросту вспоминает старый быт. Это были поиски утраченного времени.
Только теперь мы можем понять, что в дореволюционном простонародном быту был стиль. Высокие сапоги, гармошка, самоварные чаепития на Воробьевых горах — под стать масленичным гуляньям и звону московских колоколов. В эту устоявшуюся буколику входило новое — и сразу же обретало приметы быта, знакомые любому пригородному пассажиру:
С ленивой телесностью, как волос в парикмахерской, на пол падало жирное серебро стальной стружки. Мимо обширного застекления с поломавшимися стеклами, сотрясая полы и своды, пробегали поезда и паровозы. Но свистков не было слышно, лишь видно было, как отрывались от клапанов петушки белого пара и отлетали в пустое послеобеденное небо.
Это — описание инструментальных мастерских Казанской железной дороги в отрывке «Тетя Оля». А вот описание тогдашнего быта:
В закате загорался притвор Спаса в Песках и черепные впадины его звонниц. Заглохший самовар приходилось раздувать. Это почти никогда не удавалось. Его разводили снова.
Подкрадывались сумерки. Оля закрывала книгу. Чай садились пить в надвинувшейся темноте. Только руки, сахарница и что-нибудь из закусок озарялись на минуту красноватым вздохом угольков, падавших в решетку самоварного поддувала.
Создается образ гармонического быта, «паровоз» и «самовар» в нем не противопоставлены, а объединены, и достигается это употреблением слова «поддувало». Ассоциативные связи идут дальше и объединяют церковь Спаса в Песках с революционной книгой.
Марина Цветаева писала, что быт у Пастернака легкий — не оседлый, а в седле. И когда он пишет о революции, подполье у него заменяется сходкой, «маевкой».
Пустую вырубку окружали голенастые ели и сосны. За ними лиловела голая, еще только что отзимовавшая чаща. Из нее заплывал паровозный дым и тянул клочьями до самой заставы.
Эти отрывки («Надменный нищий», «Уезд в тылу» и др.) печатались как фрагменты из романа о 5-м годе. Реальность Пастернак хотел ограничить поэтической прелюдией к ней. Пятый год — еще не революция: вернее, революция хороша тогда, когда она ничего не меняет в картине осени или зимы. Жизнь продолжается. В поэме «1905» он писал:
Отрывок «Уезд в тылу» уже вплотную подводит к «Доктору Живаго». Действие переносится на Урал, но оно передвинуто не только в пространстве, но и во времени — 1916. Сюжет еще не разверстан по лицам так, как это будет в романе, но уже входит основная его тема — тема гибнущего быта. (Капуста с возов, еще не доехавших до рынка, расхватывается горожанами.) Тут же бытовые реалии передаются в уже неясных нынешнему читателю образах: «На мне были новые, неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правом по подбору…» Подчеркнутые мной слова так же загадочны, как слова Блока из письма к матери, когда он был призван в армию: о присылке сапог черного товара.
Мы даже не способны представить себе, сколько реальностей ушло из России с большевистской революцией.
Фрагменты к роману — очень сильная проза. Мне она кажется сильнее основного текста «Доктора Живаго».
Конечно, отрывок в пол-листа легче написать, чем роман в 30 листов. Но дело не в объеме, а в материале, с которым работал Пастернак в том и другом случае. В роман он ввел современность, начавшуюся вместе с большевистской революцией. Материалом романа стала жизнь, из которой ушла поэзия.
Конфликты этой жизни не могут быть разрешены или «сняты» эстетически.
Оказалось, что в вещи крупного жанра нельзя сохранить иллюзию торжествующей красоты. Большая русская литература XX века должна быть эстетически ущербной. В ней не может быть катарсиса. Угрожаемо не художественное творчество, а само бытие. Поэтому литературе должна быть чем-то бо́льшим, чем просто литература. Дело идет не о художественных приемах автора, а о том, быть ли ему живу.