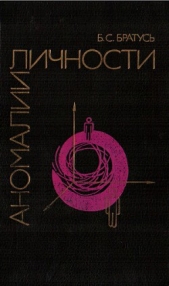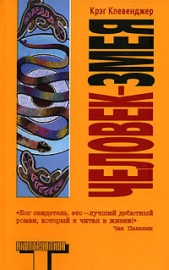След: Философия. История. Современность

След: Философия. История. Современность читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все же — это психологическая автобиография босяка, мемуары плебея-комплексанта. При всей «очень-начитанности» Горького книга не стала свидетельством об интеллигенции, и никаким разоблачением таковой, «отходной» там и не пахнет. И прежде всего потому, что главный герой — отнюдь не интеллигент, это подручный пекаря Алексей Пешков, помещаемый в интеллигентскую гостиную, а то и в барский салон.
Почему, собственно, мы должны считать Клима Самгина типичным представителем осуждаемой и разоблачаемой «буржуазной интеллигенции»? Вообще мотивировать нелюбовь к интеллигенции ее буржуазностью — просто глупость или полное незнание дела (говорю не о Горьком, а о советских интерпретаторах «Самгина»): русская интеллигенция была насквозь демократична и радикальна, даже и у «веховцев» не было никаких антидемократических априори. С какой же стороны ведет на нее атаку Горький (то, что атака ведется, сомнений не вызывает)? Он на нее нападает снизу: Клим Самгин в романе — человек наименее яркий, наименее талантливый («в сущности, я — бездарен»); человек, у которого нет своих слов, он «молчит»; самого человека нет. «Был ли мальчик?» — это не о Борисе Варавке сказано, а именно о Климе: он не существует, а выдуман в детстве отцом. Порой он ощущает свое невежество — именно в сравнении с «веховского» типа людьми. Клим все время напрягается, он форсирован, он играет роль, потому что самого его нет, фамилия «Самгин» обманчива. И когда он решается все-таки высказать себя — всегда возникает нечто вроде скандала, причем не залихватски артистического, а мелкого, даже хамоватого (Горький на премьере «Дачников» — в зал: «Плюю на вас!»), — он и в скандале незначителен (Горький против Толстого и Достоевского в «Заметках о мещанстве»). С мотивом антиинтеллигентского скандала связан мотив обмана (мужик с сомом в первом томе) и, главное, мотив предательства: Самгину, в сущности, жандармский следователь едва ли не приятнее, чем его интеллигентские знакомцы. И отсюда, пожалуй, тайное тяготение к людям «простым», готовность вместе с девчонкой на подъеме колокола крикнуть интеллигентам: «Да что вы озорничаете!» Тут же присутствует и мотив некоего опрощения, опять-таки антиинтеллигентски заостренный; наличествуют даже — страшно сказать! — консервативные симпатии: Климу нравится «черносотенный» историк Козлов, сыщик по уголовным делам Митрофанов, то есть люди, сидящие на своих местах, не поднимающие пыли и шума. И если он все-таки хочет революции, то для того, чтобы уничтожить «едкую человеческую пыль»; и самое сокровенное: «революция нужна для того, чтобы уничтожить революционеров».
Не ясно ли из этих только слегка систематизированных выписок, что Клим Самгин — это никакой не интеллигент, это Алексей Пешков, играющий роль Максима Горького, роль знаменитого писателя, начитанного интеллигента, пламенного революционера. Парадокс в том, что он действительно был и тем, и другим, и третьим — был Максимом Горьким. Но это — «имя», а не человек, вернее, псевдоимя, маска, роль, дававшаяся с огромным трудом, а потому в глубине души нелюбимая. Горький злился на людей, ему эту роль навязавших. Клим Самгин — бессознательное Горького, его «тень». В бессознательное вытесняется, однако, не только низкое, но и высокое — если последнее по-своему противоречит принятым нормам. Ведь помимо нелюбви к интеллигенции в «Самгине» присутствуют подавленные симпатии Горького, как из «бабушкина», так и из «дедушкина» начала. Историк-краевед Козлов — от «бабушки», конечно. Симпатяга Варавка — это удавшийся «дедушка», как и «великан» Бердников, которому Самгин охотно прощает его хамство. Зато Лютов, хотя и сделан умным, должен вызывать, по замыслу, антипатию; и антипатия эта — по адресу таких, как Савва Морозов: душевная неустойчивость спроецирована визуально, в образе кривляющегося, вихляющегося Лютова, и опять же авторская мораль ясна: вот что бывает с человеком, когда он перестает заниматься предназначенным ему делом — и начинает выдавать ссуды большевикам.
Правда, большевик Кутузов сделан симпатичным, но это скорее всего потому, что у него борода Александра III. Эта аллегория долженствует означать, что большевики наведут порядок, что это настоящие хозяева. Если не Савва Морозов с Бугровым, то уж Тимофей Варавка всем как будто хорош; но Горький отправляет его умирать в санаторий для ожиревших (плакатно яркая сцена «вырождения господствующего класса»); большевики же, по Горькому, жиреть не должны. Только они могут быть подлинно буржуазными — то есть деловыми, активными, волевыми. Революция для Горького — не освобождение, а организация, и в «Самгине» этот символ веры повторяется не реже, чем в других местах. Но неужели Горький всерьез верил, что под охраной поджарых волков из ГПУ коровы и овцы будут успешнее нагуливать вес?
Впрочем, таким вопросом он и не задавался, потому что культуру видел не в «аграрной», а в «промышленной» модели; не прозябание ростка, а вгрызание экскаваторного ковша в землю. Горьковские панегирики могуществу разума и проклятия «природе» заставляют вспомнить трактовку Фрейдом технологической экспансии как сублимированного садизма, — здесь не Эрос действует, а Танатос. На глубинно психологическом уровне это садистическое отношение к бытию и характеризовало Горького: «культура» была мотивировкой для агрессии, насильничества, погрома. Фарфоровые вазы были так называемым «реактивным образованием».
После Горького появление писателей-«деревенщиков» было абсолютно необходимой реакцией. Деревенская проза — ответ болота мелиоратору, абсолютно необходимый ответ. И это — буквально: кто спас сибирские реки от поворота? Легко можно догадаться, каким энтузиазмом наполнил бы этот проект Горького, если даже какой-то паршивый Беломорканал вызвал его восторги; и неважно, кого убивают — людей или «природу». Деревенщиками управляет безошибочный инстинкт: ощущение биологической основы бытия, «природы», «почвы» как самого важного, самого реального, для них почва перестала быть аллегорией Достоевского. Такой консерватизм не оспорить никакому либералу. Спорить с этим может только зловещий утопист, мечтающий превратить человека в «аутотрофное» существо. Правда деревенщиков — не политического, а бытийного свойства.
Но что бы ни сказать о деревенщиках позитивного — есть у них один негатив, который едва ли не сводит на нет все их заслуги: почти не скрываемый антисемитизм. С этим добровольно припечатанным клеймом они далеко не пойдут — или, напротив, зайдут слишком далеко.
На этом — закончим о деревенщиках. У нас речь о Горьком. Вопрос: не он ли, так сказать, и насадил антисемитизм в советской России?
Во всех его писаниях упорно проводится противопоставление евреев русским как «высших» — «низшим». Возьмем те же «Несвоевременные мысли»:
Я уже несколько раз указывал антисемитам, что если некоторые евреи умеют занять в жизни наиболее выгодные и сытые позиции, это объясняется их умением работать, экстазом, который они вносят в процесс труда, любовью «делать» и способностью любоваться делом. Еврей почти всегда лучший работник, чем русский, на это глупо злиться, этому надо учиться. И в деле личной наживы, и на арене общественного служения еврей вносит больше страсти, чем многоглаголивый россиянин, и, в конце концов, какую бы чепуху ни пороли антисемиты, они не любят еврея только за то, что он явно лучше, ловчее, трудоспособнее их.
А вот что говорится в той же книге о русских:
…мне пишут яростные упреки: я, будто бы, «ненавижу народ». Это требует объяснения. Скажу откровенно, что люди, многоглаголящие о своей любви к народу, всегда вызывали у меня чувство недоверчивое и подозрительное. Я спрашиваю себя — спрашиваю их — неужели они любят тех мужиков, которые, наглотавшись водки до озверения, бьют своих беременных жен пинками в живот? Тех мужиков, которые, истребляя миллионы пудов зерна на «самогонку», предоставляют любящим их издыхать от голода? Тех, которые зарывают в землю десятки тысяч пудов зерна и гноят его, а голодным — не желают дать? Тех мужиков, которые зарывают даже друг друга живьем в землю, тех, которые устраивают на улицах кровавые самосуды, и тех, которые с наслаждением любуются, как человека избивают насмерть или топят в реке? Тех, которые продают краденый хлеб по десяти рублей фунт?
Я уверен, что любвеобильные граждане, упрекающие меня в ненависти к народу, в глубине своих душ так же не любят этот одичавший, своекорыстный народ, как и я его не люблю. Но, если я ошибаюсь, и они, все-таки, любят его таким, каков он есть, — прошу извинить меня за ошибку, — но остаюсь при своем: не люблю.