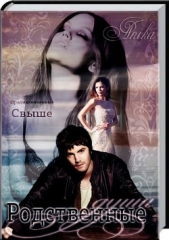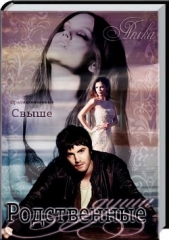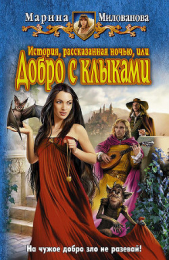«Последние новости». 1934-1935
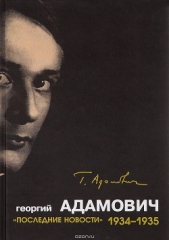
«Последние новости». 1934-1935 читать книгу онлайн
В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья — парижских «Последних новостях» — с 1928 по 1940 год.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда мы, по привычке, говорим о Пушкине, как о «величайшем» русском поэте, то в большинстве случаев лишь отдаем дань традиции, надеясь, что так нас и понимают. По существу, трудно, или, вернее, даже невозможно указать бесспорно «величайшего» среди русских писателей, и нет у нас национальных вершин, как Гете у немцев, или Шекспир в Англии. Ни Гоголь, ни Достоевский, ни, в особенности, Толстой — не менее великие писатели, чем Пушкин, и, помимо возможности, нет еще и надобности устраивать между ними какие-то нелепые состязания на первенство, или составлять табель о рангах. Но оттого ли, что Пушкин, действительно, «первая любовь» России, как сказал Тютчев, и что «России сердце не забудет» его, или в силу каких либо иных причин, есть в его облике что-то, действительно, единственное, несравненное. Просмотрите, например, несколько томов Вересаева, содержащих только документы Пушкина или о Пушкине: в главных чертах все известно, казалось бы, нет ничего существенного, нового, а от книги нет сил оторваться, книга увлекает, захватывает, потрясает, и чем дальше, тем становится очевиднее значение личной судьбы поэта в общей судьбе России. В этом смысле, пушкинизм, несмотря на все его крайности, внутренне оправдан, и не случайно расцвел он у нас таким пышным цветом, при полном отсутствии «гоголизма» или хотя бы «лермонтовизма». Удивительно, что, например, смерть Пушкина отчетливо воспринимается как роковая не только для нашей литературы, но и для всей нашей истории, — будто, не сохранив его, не поняв, кого она замучила, не оценив, кого она теряет, императорская Россия начала явственно катиться под гору, все быстрее и быстрее, не всегда даже делая попытки удержаться. Это, конечно, только впечатление, только иллюзия, а не реальность, и незачем делать предположение, что история движется и управляется такими туманными «мистическими» законами: но именно впечатление-то и характерно. Оно показывает, какое место занимает Пушкин в огромном большинстве русских сознаний.
Тынянов — один из немногих современных писателей, способных написать не только художественную биографию Пушкина, но и роман, где он был бы героем. Поэтому его произведение и возбуждает такой интерес. Во-первых, имя его дает гарантию добросовестности и фактической точности, — что в таком деле чрезвычайно важно; во-вторых, у него есть и настоящий дар проникновения, без которого творчество немыслимо. Каюсь, я долго сомневался в этом, и ни «Кюхля», ни, в особенности, аляповатый роман о Грибоедове «Смерть Вазир-Мухтара» сомнений моих не поколебали. Но «Восковая персона» и некоторые небольшие повести Тынянова — это литература подлинная, а не только старательная мозаика ученого исследователя, возомнившего себя художником. По-видимому, дарование у Тынянова — медленно-зреющее, развивающееся с тяжелыми перебоями, и только в самые последние годы он, так сказать, нашел себя.
Начальные главы «Пушкина» на редкость хороши. Легкомысленный отец поэта, его мать, Василий Львович, няня Арина Родионовна, еще молодая, — все оживают перед нами. Вот, например, Карамзин на обеде у Пушкиных.
«Ему было 34 года, возраст угасания.
Морщин еще не было, но на лице, удлиненном, белом, появился у него холод. Несмотря на шутливость, несмотря на ласковость к “щекотуньям”, как называл он молоденьких, — видно было, что он многое изведал. Мир разрушался; везде в России — уродства, горшие порою, чем французское злодейство. Полно мечтать о счастьи человечества! Сердце его было разбито прекрасной женщиной, другом которой он был. После путешествия в Европу, он стал холоднее к друзьям. Необычайное уважение окружало поэта. Его грусть вносила всюду порядок и умеренность. Знакомства с ним желали, чтобы успокоить сердце. Сейчас мысли его были рассеяны. И он сказал о том, жил, и на что надеялся все эти дни, — о поездке в Карлсбад и Пир-монт. Он был болен, а больному не воспрепятствуют выехать для лечения. Климат московский становился для него тягостным. Но он не сказал ни о Пирмонте, ни о Карлсбаде.
— Боже, — сказал он, — представляю себе счастливый климат Чили, Перу, острова Святой Елены, Бурбона, Филиппинских, эти вечно-цветущие, вечноплодоносные дерева и готов здесь в Москве задохнуться от жары!
И все вздохнули в восторге от того, что слышали, и как бы участвовали в этой для всех важной и приятной печали. А Марья Алексеевна тотчас сказала лакею Петьке принести прохладительного».
Блеск и живость картин почти всюду одинаковые. Одно только смущает. Сейчас в первых главах Пушкин — еще ребенок и молчит. Дальше Тынянову придется что-то за него сочинять и вкладывать в уста речи, которых он не говорил. Без этого не обойтись. Между тем, отношение наше к Пушкину таково, что всякое словесное фантазирование за его счет коробит, — если не в такой же мере, конечно, то по тем же основаниям, как в романах на евангельские темы оскорбляет любое слово, произвольно приписанное Христу.
Сергеев-Ценский, например, в своем недавнем романе «Невеста Пушкина», приписывает поэту такие разбитные речи: «Я хотел бы быть только генералом! Как это было бы чудесно! Придти к мамаше-красавице и сказать ей: Э-эе, сударыня, я-я, сударыня… пленен красотой вашей, черт возьми, дочки!..»
У Тынянова ума и такта больше, чем у Сергеева-Ценского. Но чуть-чуть страшно и за него.
ОЦЕНКИ ПУШКИНА
Мысль издать сборник всех критических суждений Пушкина очень удачна. Не злоупотребляя привычным выражением «настольная книга», надо все же признать, что этот сборник достоин того, чтобы его читал и перечитывал всякий, кому дорога наша литература.
Пушкин не был настоящим критиком: этого незачем доказывать, так как никто против этого не станет и спорить. Он мало оставил критических статей и заметок, он не претендовал на роль присяжного судьи и ценителя. Но будучи человеком необычайно-живого ума, он отзывался в своих письмах и личных записках на тысячи разнообразнейших явлений, — и, прежде всего, на явления литературные. Пушкин не напрасно считал себя профессионалом в литературе. Именно как профессионал судил он обо всем, что составляло литературную «злобу дня» его времени, и если для специалиста в этом-то и заключена главная прелесть и ценность его суждений, то отчасти жаль все-таки, что он не пожелал расширить род и жанр своих замечаний… Перелистываешь толстый, тяжелый том, «Пушкин-критик» 1: мелькают имена — Грибоедов, Гоголь. Несколько удивительно острых и проницательных замечаний, вроде того, что «Чацкий совсем не умен, но Грибоедов очень умен», и в точности сбывшегося пророчества, что «половина стихов “Горе от ума” войдет в пословицу». Но что думал Пушкин о грибоедовской комедии вообще, как отнесся к ней, помимо профессионально-писательского восхищения? Неизвестно. Истолкование «Горя от ума» дал Белинский, а затем Гончаров, — пушкинского истолкования нет, хотя у Пушкина не могло не сложиться своего взгляда на явление, столь новое в нашей словесности и столь сильно его поразившее. Но он промолчал. Он оставил только несколько отрывочных, случайных суждений, по которым приходится догадываться о его впечатлениях и мыслях. Повторяю, в этом есть своя прелесть, так как ум наш при чтении Пушкина все время настороже и должен работать сам. Но возбужденное любопытство не всегда удовлетворено, и чем важнее и сложнее загадка, тем оно напряженнее и даже болезненнее.
Как, например, относился он к Гоголю? Понял ли его во всей его глубине? Или только скользнул рассеянно-одобрительным, снисходительно-поощрительным взглядом? Никто никогда на это не ответит. Есть пять-шесть всем известных фраз: «Очень оригинально и очень смешно», — об «Иван Ивановиче с Иваном Никифоровичем»; «Спасибо, великое спасибо Гоголю за его “Коляску”; в ней альманах может далеко уехать», и кое-что другое, свидетельствующее о литературном признании и доверии. Есть знаменитое восклицание после чтения «Мертвых душ»: «Боже, как грустна наша Россия!», — восклицание, создавшее у нас представление, будто бы Пушкин был гоголевской поэмой потрясен. Но, во-первых, восклицание приводится самим Гоголем, в пушкинских бумагах нет никакого следа его, ничего, что как-нибудь его бы подтверждало, — и не случайно в самые последние годы было сделано предположение (если не изменяет мне память, Ю. Тыняновым), что подлинно «потрясен» Пушкин не был: иначе он поделился бы этим потрясением со своими ближайшими друзьями, как делал это обычно. Во-вторых, — как недавно заметил Ремизов, — в начальных главах «Мертвых душ», которые Пушкин прослушал, ничего грустного еще нет, и восклицания его, если только оно верно передано Гоголем, не вполне понятно. Эти единственные пушкинские слова, дающие как бы проблеск угадывания трагической сущности Гоголя, остаются под подозрением, — тем более, что сам Гоголь ни в коем случае не может считаться свидетелем достоверным. А, кроме них, кроме этого «вздоха», ничего в сущности нет положительного и убедительного.