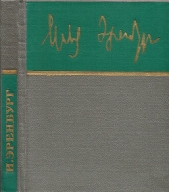Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мы одолели бы Франко, если бы…
Он не захотел докончить мысль и оборвал сразу.
— Любая гражданская война штука жестокая, кровавая, но испанская вышла похлеще…
Он опять оборвал фразу и посмотрел на меня внимательно. Спустя много лет, ощущая на себе тот пристальный взор, я понял, что он ожидал какой-то реакции, в сущности, проверял — кто я есть на самом-то деле? На самом деле я сын бывшего заключенного сталинского специзолятора в Донбассе, который превосходно осознавал шаткость собственного положения в социалистическом обществе и никогда не забывал об уязвимости прошлого отца, которое тщательно скрывал.
Я неохотно кивнул головой. Если кто-нибудь подслушивает наш разговор, то Каперанг в случае чего защитит. Я боялся подслушивания, боялся взглядов и собственной тени. Однажды я шел к Борьке Зильбербергу и выбросил на Левашовской скомканный листок с решением задачи — и выбросил крайне неудачно. Он упал возле урны, рядом с входом в Институт марксизма-ленинизма, который потом переменил вывеску и превратился в Институт истории партии при ЦК КП(б)У. Неподалеку находился особняк сахарозаводчика Бродского, где недавно поселился председатель Президиума Верховного совета УССР Гречуха, а в годы революции и Гражданской войны размещалось ЧК Мартына Лациса. Там у крыльца стоял часовой с примкнутым штыком. Я не могу объяснить, чего испугался. Я крутился так долго поблизости от урны, что часовой заметил и, мотнув штыком, прогнал. Я в ужасе подхватил с земли трепещущий на ветру комок и кинулся прочь со всех ног. Чудилось, что меня могут в чем-то обвинить. С неделю я не ходил по Левашовской, делая неудобный и длинный крюк по Розе Люксембург.
Гражданская война в изображении наших писателей казалось фальшивой и приукрашенной. После первых немецких бомбежек мнение укрепилось. Вот она какая — война! Все, что сочиняли Гайдар, Катаев, какой-то Мирошниченко и прочая шатия-братия, было бузой на постном масле, как выражались у нас во дворе. Даже недавно украдкой прочитанные бабелевская «Конармия» и шолоховский «Тихий Дон» в моем понимании рисовали облегченную картину происшедшей братоубийственной бойни. Нас окружал звериный мир с железными законами выживания, мир злобы и ненависти, без всякого намека на человеческие чувства. Что творилось во дворах после оккупации, трудно передать. Иногда казалось, что в эвакуации — на чужбине — царили более мягкие нравы.
— И не одни фалангисты и немцы принесли в испанскую войну жестокость. Надо признать, что и мы тоже постарались. Только болтать о том нельзя. Слышишь? Нельзя болтать. Это я тебе говорю по дружбе.
Он беспрестанно повторял и раньше это заклинание, будто молился на нелепый запрет и вместе с тем не прекращал его нарушать. Ну, тетка боялась лишнее слово хрюкнуть, вокруг нее полно осужденных и расстрелянных, а почему Каперанг напирает на запрет? Чего он боится? У него орденов полно и Строкач знакомый.
— А с чего началось? Вот ты не в курсе, и никто не в курсе, и никогда не будет никто в курсе.
Каперанг помолчал, а затем продолжил:
— Потому что ни писать об этом, ни рассказывать кому-нибудь запрещено под подписку.
Теперь понятно: он дал подписку. Не разглашать. Про подписку я уже кое-что знал. Отец дал тоже подписку не разглашать, что с ним вытворяли в тюрподвале города Сталино. Но Каперанг каждый раз нарушал подписку. Что-то внутри жгло.
— Сколько мы перегнали туда техники на кораблях через Средиземное море. Около четырех сотен танков получили республиканцы, не считая тех, которые закупили в Европе. Могучая сила! И куда подевались?! Больше шестисот самолетов привезли на кораблях, рискуя нарваться на мины. Ни один не вернулся!
Он ударил рукой по постели и повторил:
— Ни один не вернулся! А немцы, кроме сбитых нами, всех возвратили назад. Вот какая арифметика.
Мне и в голову не приходило, куда исчезла наша техника?
Цифры Каперанга звучали опасно и фантастично, хотя сегодня я предполагаю, что он преуменьшал их, вероятно, по неосведомленности. Но все равно Каперанг выдавал государственную тайну. У Эренбурга в легально напечатанном и подцензурном «Падении Парижа» речь вели о каких-то жалких двух десятках истребителей. Через полвека я прочел специальную статью о поставках вооружений в республиканскую Испанию и убедился, что Каперанг ничуть не преувеличивал количество. У него и авторов был, очевидно, один источник. В другом романе Эренбурга «Что человеку надо» дело изображалось так, будто интербригадовцы сражались едва ли не голыми руками. Танков и бронемашин как кот наплакал. Каперанг, однако, выдавал не просто государственные тайны, он и советское газетное вранье разоблачал. Не иначе начитался Хемингуэя? Но когда он успел и где достал книгу? И на каком языке читал, если читал?
— Немцы не стеснялись. Им ближе. Итальянцы завалили Франко пушками и винтовками. Итальяшки хорошие оружейники.
Это было для меня открытием. Итальянские части стояли на украинской земле, например в Жмеринке, и к ним население относилось снисходительно. Зимой мерзли, дразнили их «шемизетками», они ухлестывали за девками и не желали маршировать на передовую. Немцы бесились. Насчет ихнего вооружения никто ничего не говорил.
— Муссолини тоже не утаивал особо своего присутствия, — продолжал выдавать секреты Каперанг. — Присылал танкетки, каски, амуницию. Вот еще какая штука в самом начале случилась…
И тут Каперанг поведал такое, о чем я до сих пор нигде не читал ни в отечественной, ни в переводной литературе. Эпизод врезался в память до мельчайших подробностей. С того дня и пошла, по мнению Каперанга, бойня.
— В один прекрасный день к селению, где я находился, на берегу неширокой речушки, к республиканскому батальону подкатила танковая колонна. Машин десять. И приткнулись за грядой холмов. Командир головного танка вылез из люка, отрекомендовался: генерал Пабло, подозвал испанского офицера-республиканца и через нашего переводчика спрашивает, почему, дескать, затишье? Ему в штабе сказали, что здесь идут стычки с марокканцами. Он прибыл сюда, чтобы с ходу подавить этих обезьян. Переводчик шпарит, как слышит. Насчет обезьян испанцу не понравилось. Он покачал головой и начал объяснять положение танкисту. Тот слушал-слушал и спрашивает, глядя куда-то в сторону: «Что, у вас воюют одни изменники?» — «Почему изменники?» — Испанец возмутился. «Ты, товарищ, не гоношись, — сказал танкист. — Вон марокканцы по берегу шастают, воду из речки черпают, жгут в долине костры, готовят похлебку в бинокль видно, как чмокают губами, а по ним никто не ведет прицельного огня». Испанец объясняет: мол, сейчас обеденное время. Тогда наш русак взрывается и кричит: «Какое обеденное время?! Вы все изменники, и я атакую немедленно! Сейчас они у меня перестанут смеяться!» Танкист был, видно, в большом чине. Из приданных испанцам русских никто не вмешался. «Плевал я на обеденное время!» И он потребовал, чтобы ему указали точки разведанных заранее переправ. Испанец замахал руками и чуть не плача принялся убеждать переводчика, что подобными действиями они нарушат негласную договоренность. Тогда командир послал испанца в известное место, запретив переводчику, правда, переводить. Он залез в машину и помчался в атаку на марокканцев, сообразив, очевидно, по одному ему известным приметам, что водная преграда неглубока. Остальные танки устремились за ним. Марокканцы сперва не бросились в бегство, кричали и махали руками, показывая то на солнце, то на часы. Пулеметы начали их косить десятками. Тогда марокканцы ударились в беспорядочное отступление и попали в ловушку. Наш-то русак местность успел изучить по карте и загнал франкистов в тупик — к отвесной скале. Ловко он их взял в клещи! Кого не достали пулей, тот отыскал смерть под гусеницами. Через час машины возвратились на исходную позицию. Командир вылез из люка, подошел к испанцу, который сидел под деревом с поникшей головой, подозвал девчонку-переводчицу и влепил офицеру: вот как надо, понял? Офицер, чуть не плача, закивал головой. Русских они боялись. Но все-таки командир что-то почувствовал и принялся объяснять республиканцу: это же мятежники! марокканцы, фашисты! фалангисты, франкисты! Какие с ними могут быть договоренности?! Ты, наверное, анархист, троцкист? Республиканец молчал, выпятив нижнюю губу и опустив уголки рта. Вот-вот, по виду, заплачет. С каждой минутой он мрачнел и качал головой, выражая несогласие: ах, Пабло, зачем ты так поступил! Я сам присутствовал при всей этой сцене! Но ты, — и Каперанг обратился ко мне, — никому про это не рассказывай. Я ведь подписку дал о неразглашении. Даже говорить один на один о таком с самим близким человеком запрещено. Ни жене, ни брату — ни гу-гу!