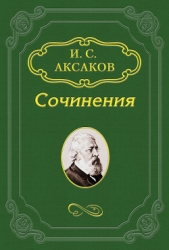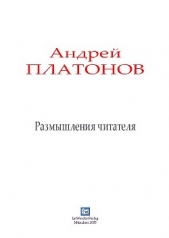Для читателя-современника (Статьи и исследования)

Для читателя-современника (Статьи и исследования) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тесно переплетенные любовь и измену,
Страх смерти и постоянных возврат сожалений
Все это они вам предложат.
Я прихожу
с круто посоленным хлебом,
ярмом непосильной работы,
неустанной борьбой.
Нате, берите:
голод,
опасность
и ненависть.
Однако беда Сэндберга была в том, что он неспособен был идти до конца и сделать последовательные и четкие выводы. "Поэт - это человек, дающий ответы", - приводит он слова Уитмена, но сам в своем творчестве только и делает, что ставит вопросы, а вместо ответа как бы повторяет вместе с одним из своих героев: "Нечего спрашивать, не задавайте мне вопросов".
В то же время Сэндберг шире, отзывчивее других своих поэтических соратников. В основе стихов Сэндберга лежит любовь к своей стране и ненависть к тем, кто искажает ее облик.
Сэндберг любил и прерию, про которую он говорит: "Я родился в прерии, и молоко ее пшеницы, цвет ее клевера, глаза ее женщин дали мне песню и лозунг", и широкоплечий город-гигант Чикаго. Создавшее ему известность стихотворение "Чикаго" построено на двойственном чувстве: не закрывая глаза на преступность, скупость, жестокость этого города, он все-таки не может отвернуться от него. Правда, это пафос не осуществления, а надежды на то, что этот "буйный, хриплый, горластый" город-юнец, уподобляемый им рабочему парню, изживет все дурное в неистовом трудовом порыве.
ЧИКАГО
Свинобой и мясник всего мира,
Машиностроитель, хлебный ссыпщик,
Биржевой воротила, хозяин всех перевозок,
Буйный, хриплый, горластый,
Широкоплечий - город-гигант.
Мне говорят: ты развратен, - я этому верю: под газовыми фонарями я видел твоих накрашенных женщин, зазывающих фермерских батраков.
Мне говорят: ты преступен, - я отвечу: да, это правда, я видел, как бандит убивает и спокойно уходит, чтобы вновь убивать.
Мне говорят: что ты скуп, и мой ответ: на лице твоих детей и женщин я видел печать бесстыдного голода.
И, ответив, я обернусь еще раз к ним, высмеивающим мой город, и верну им насмешку, и скажу им:
Укажите мне город, который так звонко поет свои песни, гордясь жить, быть грубым, сильным, искусным.
С крепким словцом вгрызаясь в любую работу, громоздя урок на урок, вот он - рослый, дерзкий ленивец, такой живучий среди изнеженных городков и предместий,
Рвущийся к делу, как пес, с разинутой пенистой пастью; хитрый, словно дикарь, закаленный борьбою с пустыней,
Простоволосый,
Загребистый,
Грубый,
Планирует он пустыри,
Воздвигая, круша и вновь строя.
Весь в дыму, полон рот пыли, смеясь белозубой улыбкой,
Под тяжкой ношей судьбы, смеясь смехом мужчины,
Смеясь беспечным смехом борца, не знавшего поражений,
Смеясь с похвальбой, что в жилах его бьется кровь,
под ребром - бьется сердце народа.
Смеясь.
Смеясь буйным, хриплым, горластым смехом юнца; полуголый, весь пропотевший, гордый тем, что он - свинобой, машиностроитель, хлебный ссыпщик, биржевой воротила и хозяин всех перевозок.
Однако очень скоро Сэндберг понял, что это лишь обманчивые иллюзии, что труд в условиях капитализма обесчеловечивает трудящегося и несет ему гибель.
Сам бывший чернорабочий, он с любовью и пониманием пишет о простых, незаметных героях и жертвах труда, о землекопах, грузчиках, возницах молочных фургонов и создает в их честь "Псалом тем, кто выходит на рассвете".
Сэндберг посвящает большую поэму рождению стали. Но и тут осязательная сталь окутана летучим, стелющимся дымом, "следы которого сталь сохраняет в сердце своем". И поэма так и названа Сэндбергом - "Дым и сталь".
Говоря о вещах, Сэндберг не забывает о человеке, создателе этих вещей. Он высоко ценит его труд. Он воспевает победу человека над стихией дыма и огня, над коварной сталью, и рефреном звучит, как гимн человеку труда:
Люди-птицы
Гудят в синеве,
И о стали
Поет жужжащий мотор.
Опасность им нипочем,
Они поднимают
Людей в синеву,
И о стали
Поет жужжащий мотор.
("Дым и сталь")
Сэндберг страстно ненавидит все то, что калечит человека, мешает ему трудиться или самый труд обращает в смертельную опасность. Он негодует, когда Бирмингем, Хомстед и Бреддок делают сталь из людей, из их пота, крови и жизни.
В конечном счете Сэндберг всегда думает о человеке, но люди у него не всегда на первом плане, они в тени, молчат или говорят невнятно, часто это лишь тени погибших людей.
Скрыты пять человек в ковше расплавленной стали.
Кости их впаяны в сплавы из стали,
Кости их вплющены в молот и наковальню,
Всосаны в трубы и в диски турбины.
Ищите их в переплетении тросов на радиомачтах...
Они вплавлены в сталь и молчаливы как сталь,
Всегда они здесь и никогда не ответят.
("Дым и сталь")
И поэтому у него часто вещи осязательнее безмолвного человека и говорят за него. Чикаго у него очеловечен, а человек вплавлен в сталь. Рисуя "Портрет автомобиля", он весь художественный заряд тратит на авто, уподобляя его "длинноногому псу, серокрылому орлу", тогда как шофер Данни только упомянут. Часто человек дан у него не объемно, а наброском, не в полный голос, а в полтона, не в развитии и не в динамике борьбы. Часто, но далеко не всегда. В лучших своих вещах Сэндберг пишет о борьбе человека за право на труд, на жизнь и на счастье. Право на труд - вот оно:
Двадцать человек смотрят на землекопов,
Роющих газовую магистраль...
Десять бормочут: "Ну и адова ж это работа!"
А десять: "Мне бы хоть эту работу".
("Землекопы")
А вот право на жизнь:
АННА ИМРОС
Скрестите ей руки на груди - вот так.
Выпрямите ноги еще немножко - вот так.
И вызовите карету отвезти тело домой.
Ее мать поплачет, отец, сестры и братья.
Но всем, кроме нее, удалось спастись, и все невредимы,
Из всех работниц она одна пострадала, когда вспыхнул пожар.
Виной тому воля господня и отсутствие пожарных лестниц.
И право на счастье:
Где вы, рисовальщики?..
Берите карандаш,
Набросайте эти лица...
Лица,
Уставшие желать,
Позабывшие грезить.
("В холстэдском трамвае")
Если такова была Америка в дни мира, то что и говорить о днях войны. Старый ветеран испано-американской войны, Сэндберг ненавидел империалистическую бойню и тех, кто ее раздувает, он жалел тех, кто в нее был втянут обманом или силой. В дни войны, когда передвинутый на карте на один дюйм флажок означал потоки крови, десятки тысяч жизней ("Флажки"), Сэндберг пишет:
Я пою вам
мягко, словно отец, прощаясь с умершим ребенком,
сурово, как человек в кандалах,
лишенный насущной свободы.
На земле
шестнадцать миллионов
выбраны за свои белые зубы,
острый взгляд, крепкие ноги,
молодую, горячую кровь.
И красный сок течет по зеленой траве,
красный сок пропитывает темную землю,
и шестнадцать миллионов убивают... убивают...
убивают...
("Убийцы")
Сэндберг не хочет верить, что человек рожден для убийства; для него солдаты - это простые люди с ружьем, рожденные для того, чтобы орудовать лопатой - сестрою пушки ("Железо"). Но на его глазах юношам настойчиво втолковывают обратное: им твердят, что железо - это орудие войны, что пушка приходится лопате сестрой, что мирный труд - это только подготовка к войне.
Полуидиллическая тема родной земли перерастает в трагическую тему родной страны, раздираемой классовыми противоречиями, в цепь горьких раздумий о ее судьбах и достоинстве. Сэндберг с горечью прослеживает, как деградировала в Америке демократия. В стихотворении "Троесловья" Сэндберг пишет о триединой формуле тех ценностей, ради которых жили и умирали люди. С детства он слышал славные старые слова французской революции: "Свобода, Равенство, Братство", - но почтенные бородатые граждане "с орхидеей в петлице" гнусаво внушали его стране другие троесловия: "Небо, Семья и Мать", "Бог, Бессмертье и Долг". И вот результат этих пустых, лишенных содержания формул: те самые веселые молодые парни в матросках приносят во все порты, открытые для них принципом равных возможностей, свое троесловие, то, чем они живут и ради чего их посылают умирать: "Мне яичницу с салом! Что стоит? Не пойдешь ли со мною, красотка?" И это в годы, когда "из великой России донеслись три суровые слова", ради которых рабочие взялись за оружие и пошли умирать: "Хлеб, Земля и Мир". С горечью, со стыдом за свою страну проводит Сэндберг эту параллель. Он ненавидит тех, кто и в мирное время подводит его страну к "порогу гробницы". Он не хочет видеть родину добычей дельцов и банкиров, но он свидетель того, как ее "цивилизации - создание художников, изобретателей, утопистов и чернорабочих- идут на свалку", их "выкидывают на помойку и вывозят в фургоне, словно картофельную шелуху и объедки". В его стране объявляют мечтателями и опасными смутьянами тех, кто помнит о свободе, равенстве и братстве, не говоря уже о тех, кто предъявляет права на хлеб, землю и мир. Сэндберг с трагической иронией, устами воображаемого врага, дает рецепт расправы с мечтателями, помышляющими о создании "цивилизации труда и гения", тогда как им надлежало молчать и покорно мириться с настоящим: "Заткните им глотку, затолкайте в тюрьму, прихлопните их!"