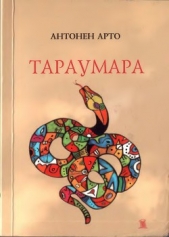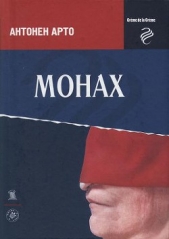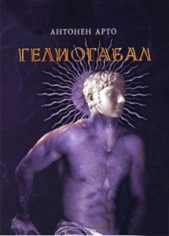Театр и его Двойник

Театр и его Двойник читать книгу онлайн
Сборник произведений Антонена Арто (1896–1948) — французского актера, режиссера, поэта, драматурга, прозаика, философа и публициста — включает сочинения разных жанров: сюрреалистические пьесы, театральные манифесты, лекции и главное произведение Арто «Театр и его Двойник» — изложение театральной системы в сочетании с философской картиной мира. Книга «Театр и его Двойник» представлена в новом переводе, адекватно передающем поэтический язык и интеллектуальную глубину оригинала. Остальные произведения публикуются на русском языке впервые. Тексты Арто снабжены подробными комментариями. В Приложение включены работы об Арто английского искусствоведа Мартина Эслина и грузинского философа Мераба Мамардашвили.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Письмо третье
Ж[ану] П[олану]
Париж. 9 ноября 1932 г.
Дорогой друг,
Возражения, которые были сделаны Вам и мне по поводу Манифеста Театра Жестокости, касаются, во-первых, самой жестокости: не ясно, какое место она занимает в моем театре, по крайней мере — как его существенный и определяющий элемент; а во-вторых — моего понимания театра.
Что касается первого возражения, я признаю правоту тех, кто мне его высказывает, но не относительно жестокости или театра, а относительно того места, которое жестокость занимает в моем театре. Мне бы следовало объяснить свое особое употребление этого слова и сказать, что я им пользуюсь не в случайном второстепенном смысле, из пристрастия к садизму и по извращенности духа, из любви к редким чувствам и нездоровым настроениям, то есть, по-моему, смысл этого слова не зависит от обстоятельств. Речь идет не о жестокости как пороке, как нарастании извращенных желаний, изливающих себя в кровавых актах, как злокачественные опухоли на пораженных тканях, — напротив, речь идет о чистом и отрешенном чувстве, об истинном движении духа, повторяющем жест самой жизни. Речь идет о том, что жизнь, в метафизическом ее понимании, допуская протяженность, плотность, тяжесть и материю, допускает и зло как прямое их следствие, — зло и все, что неотделимо от зла, пространства, протяженности и материи. Все заканчивается осознанием и страданием или осознанием в страдании. Жизнь вряд ли может существовать без какой-то слепой неумолимости, которую привносят указанные обстоятельства, иначе она не была бы жизнью, но эта неумолимость, эта жизнь, продолжающаяся несмотря ни на что, это строгое и чистое чувство и есть жестокость.
Я сказал «жестокость», как мог бы сказать «жизнь» или «необходимость», потому что прежде всего я хочу объяснить, что театр для меня — вечное действие и эманация, [257] что в нем нет ничего постоянного, что я вижу в нем подлинное, то есть живое и магическое действие.
Я ищу любую возможность, чтобы на деле приблизить театр к той высокой, может быть, несоизмеримой, но во всяком случае живой и сильной идее, какую я давно вынашиваю.
Что же касается самой редакции Манифеста, я признаю, что она резка и в общем неудачна.
Я утверждаю там суровые необычные принципы, на первый взгляд отталкивающие и ужасные, но когда от меня ждут доказательств их правомерности, я перехожу к следующим принципам.
Короче говоря, диалектика этого Манифеста слаба. Я без перехода перескакиваю от одной мысли к другой. Никакая внутренняя необходимость не может оправдать такого изложения материала.
Теперь по поводу последнего возражения. Я настаиваю на том, что режиссер, как некий демиург, хранящий в голове мысль о неумолимой чистоте и завершенности любой ценой, если он действительно хочет быть режиссером, то есть человеком, имеющим дело с материей и предметами, должен пытаться найти — в физическом плане — такое напряженное движение, такой страстный и точный жест, чтобы в плане психологическом он соответствовал абсолютной и нераздельной нравственной строгости, а в плане космическом — разгулу слепых сил, которые приводят в движение то, что им суждено приводить в движение, и по пути сокрушают и жгут все, что они должны сокрушать и жечь. [258]
И наконец, главный вывод.
Театр больше не искусство или же искусство бесполезное. Он полностью соответствует западным представлениям об искусстве. Мы устали от декоративных пустых чувств и бесцельных движений, служащих лишь приятным удовольствием для глаз, мы хотим, чтобы в театре было действие, но в строгом соответствии с планом, который еще предстоит оговорить.
Нам необходимо настоящее действие, но не связанное с повседневной жизнью. Театральное действие разворачивается отнюдь не в социальном плане, а в плане моральном и психологическом.
Ясно, что проблема не простая, но следует признать, что, как бы наш Манифест ни был хаотичен, труден и неприятен, он не уклоняется от существа вопроса, скорее наоборот, он атакует его в лоб, чего давно уже не смеет ни один театральный деятель. До сих пор никто не посягал на сам принцип театра, в сущности метафизический. Дефицит подходящих для театра пьес не связан с недостатком талантов или авторов.
Не будем обсуждать вопрос о таланте. В европейском театре живет одно принципиальное заблуждение, вытекающее из самого порядка вещей, когда отсутствие таланта кажется следствием, а не просто случайностью.
Если эпоха отвернулась от театра и перестала им интересоваться, значит, театр перестал отображать ее. Мы уже не надеемся, что театр даст нам Мифы, на которые можно опереться.
Не исключено, что мы переживаем уникальную эпоху мировой истории, когда мир, словно пропущенный через решето, видит, как исчезают в бездне его старые ценности. Общественная жизнь разваливается в своей основе. [259] В нравственном и социальном отношении это проявляется в чудовищной разнузданности желаний, в высвобождении самых низких инстинктов, в треске пламени сгорающих жизней, раньше времени предавших себя огню.
В современных событиях интересны не события сами по себе, а та предельная точка накала, то состояние нравственного брожения, в которое они погружают умы. Они постоянно и сознательно ввергают нас в состояние хаоса.
Все, что терзает дух, не давая ему утратить своего равновесия, оборачивается для него страстным средством выражения внутреннего импульса жизни.
Именно этой страстной мифической реальности и не замечает театр, и публика совершенно справедливо игнорирует его, раз он до такой степени игнорирует действительную жизнь.
Можно упрекнуть современный театр в убийственном недостатке воображения. Театр должен стоять вровень с жизнью, не с жизнью отдельного индивидуума, не с тем ее частным аспектом, где царят характеры, а, если можно так сказать, с жизнью, выпущенной на волю, сметающей на своем пути человеческую индивидуальность; человек остается в ней лишь отблеском. Создать Мифы — вот в чем истинная цель театра; выразить жизнь в ее космической беспредельности и извлечь из нее те образы, в которых нам сладко будет вновь обрести себя.
Надо достичь всеобщего подобия всего всему, столь мощного, чтобы оно могло мгновенно себя проявить.
Пусть оно освободит нас, принеся в жертву Мифу нашу маленькую человеческую индивидуальность, пусть оно освободит нас. Персонажей, пришедших из Прошлого, опираясь на силы, найденные в Прошлом.
Письмо четвертое
Ж[ану] П[олану]
Париж, 28 мая 1933 г.
Дорогой Друг,
Я не говорил, что хочу непосредственно воздействовать на эпоху, — я сказал, что театр, который я хотел создать, предполагал другую форму цивилизации, чтобы вписаться в свою эпоху.
И не отображая своего времени, театр может привести к глубоким изменениям идей, нравов, верований, принципов, на которых покоится дух времени. Во всяком случае, это не мешает мне заниматься тем, чем хочу, и делать это неукоснительно. Я сделаю то, о чем мечтал, или не сделаю ничего.
Относительно характера спектакля я не могу дать дополнительных разъяснений. Тому есть две причины.
Одна состоит в следующем: то, что я хочу сделать, легче сделать, чем сказать.
Другая заключается в том, что я не хочу стать жертвой плагиата, как со мной уже не раз случалось.
На мой взгляд, никто не имеет права называть себя автором, то есть создателем, кроме человека, к которому переходит непосредственное руководство сценой. Именно здесь болевая точка театра не только во Франции, но и в Европе, и в целом на Западе: западный театр признает только один язык, он признает свойства языка и позволяет называть языком, с тем особым интеллектуальным достоинством, которое обычно приписывают этому слову, только грамматически упорядоченную членораздельную речь, то есть язык слова, причем литературного слова, которое, независимо от того, произнесено оно или нет, имеет смысл только как зафиксированное на письме слово.