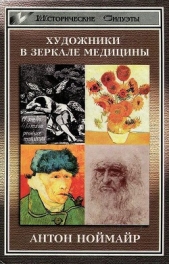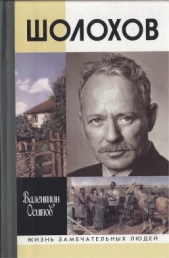Художники

Художники читать книгу онлайн
Свою книгу С. Дангулов назвал "Художники". Эта книга о мастерах пера и кисти. Автор словно вводит читателя в портретную галерею: М. Шолохов и А. Гончаров, Н. Тихонов и Кукрыниксы, М. Шагинян и В. Мухина, К. Симонов и Е. Кибрик, Р. Гамзатов и Н. Жуков... Здесь же портреты зарубежных мастеров - французского писателя Труайя и япопского архитектора Танге, итальянского писателя Дзаваттини и венгерского скульптора Маргариты Ковач. Книга воссоздает жизнь художника, его своеобычное, его новаторское существо. Автор раскрывает взаимосвязь искусств, их взаимовлияние, их взаимообогащение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот образ дался поэту не без труда — неповторимое четверостишие, которое хочется повторять: «...И в небе Млечный Путь, светясь и словно рея, мою, как портупея, пересекает грудь». Однако эти стихи именно о звездном часе человека и его отчего края, как эта мысль воспряла и в кешоковской прозе. Допускаю, что с этим могут по все согласиться, но кешоковская проза, как истинная повесть о судьбе человека, вся в стихах поэта. Помните кешоковское «Имя»? Мое восприятие этого не очень-то пространного стихотворения объяло то главное, что вместила кешоковская проза, — кстати, это не умаляет, а возвышает ее. «Мой старший брат по имени Алим на белом свете прожил слишком мало, родившийся, когда его не стало, я наречен был именем чужим. Так решили мать и вся родня, и я едва ль не с первого же дня не мог постигнуть, почему, бывало, у матери, сидящей у огня, при имени моем слеза блистала». И вот итог, более чем красноречивый, в котором судьба человека, прожившего немалую жизнь, судьба многотрудная, когда взгляд твой постигает то основное, что держит личность, определяет ее суть. Конечно, можно намертво отторгнуть эти стихи от существа романа, но поможет ли это пониманию кешоковской прозы? Как я понимаю стихи Алима Пшемаховича, его прозу именно надо соотносить со стихами, тогда философский зачин ее явит краски, которые прозу не обескровят, а обогатят, — по крайней мере, опыт моего чтения Кешокова говорит об этом. «Оно весь век на совесть мне служило, а на веку всего немало было. Оно, как вол, несло свою арбу, как мул поклажу тяжкую тащило, через потоки вброд переходило, благодарило и кляло судьбу. Оно, бывало, обливалось кровью, когда и сам я кровью истекал, и кто-то повторял его с любовью, и кто-то с нелюбовью поминал. Не знаю, как я жизнь прожил свою, стыдиться должен иль гордиться вправе, не знаю, возвеличил иль ославил прозвание свое в родном краю. Его как шапку рваную оставил иль как кольчугу, смятую в бою?»
Но у прозы поэта свои законы — по незримой системе кровеносных сосудов стихи вливаются в прозу, питая ее красками, которые подчас являются привилегией поэзии. Ведь это только поэт может сказать: «Могучие горные вершины переходили на зимнюю форму одежды — облачались в ослепительно белые бешметы». Или эпизод перед кавалерийской атакой: «Как назло, всю ночь валил снег густой. «Может, отменить кавалерийскую атаку?» — с надеждой думал кешоковский герой Кошроков, измеряя толщину снежного покрова, как мерят глубину пахоты в поле». Конечно, сильная сторона кешоковской прозы — это бытописание: автор знает быт парода, умеет сберечь колоритные детали, любит их писать. Как человек, бывший свидетелем черкесской свадьбы, могу свидетельствовать, что автор воссоздал ее, сохранив реалии, цельность и настроение картины. Вспомнил и я, как в пору свадьбы старики, укрепив на деревянных рогатинах только что зарезанного барана, от горячего мяса которого валил пар, свежевали животное, отделяя шкуру от туловища, не обращаясь к ножу, да так ловко, что ни единого порыва по оставалось па шкуре. «Во двор Оришевых народу набралось гораздо больше, чем ожидал Кошроков. Мужчины, разведя огонь в сарае, кололи дрова, свежевали баранов. Подвесив туши к перекладине, они отдирали кожу деревянным ножом, а то и руками. Им помогали мальчишки, который носили воду...» Или церемония прибытия невесты в дом жениха. «За невестой уже послали? — спросил Кошроков без всякой задней мысли. Если не послали, то его линейка в распоряжении Оришева. Раньше полагалось невест привозить и фаэтоне в сопровождении полусотни всадников. Среди них многие были с винтовками, будто бы в пути им предстояло отразить нападение». И, конечно, сама свадьба, в которой были краски детства: «Вскоре комната была уже забита людьми. Яства подносили из кухни, а потом передавали из рук в руки над головами сидевших за пиршественным столом. Чего тут только не было: отварная птица, нарезанная ломтиками паста, румяные лакумы, чесночный соус, сыр, овощи, фрукты...»
Но главное — это, конечно, образы героев Кешокова. Прежде всего образ Доти Кошрокова, бывшего полкового комиссара, которого судьба заставила вернуться на степной Кавказ, поднимать родной край из руин... Прошлой весной я был с Алимом Пшемаховичем в Ставрополье — и для него, и для меня то было место, близкое к нашему отчему Прикубанью. Разделенные на множество групп, мы рассыпались едва ли не по всему степному Кавказу. Кешоков уехал в Черкесию и в Кабарду, а я поехал поближе к моим местам — к Невинномысску, Армавиру. Когда Кешоков вернулся из Черкесска, я приметил его рядом с молодыми черкешенками — я узнал их по гибкости стана и не столь смоляным, как у остальных кавказских женщин, волосам, в отливе их волос была если не темнорусость, то краснинка. Ну, их черкесское происхождение безошибочно опознавалось по великолепному их черкесскому, на котором они заговорили с особой, не ищу иных слов, прелестью и бравадой. (Как потом я узнал, молодые женщины ведали в Черкесии делами культуры и им была поручена организация встреч писателя с читателями, которых здесь у него особенно много.) Но в тот самый момент, когда начался этот диалог с черкешенками, я невзначай обнаружил такое, что отличает бравого северо-кавказца, моего земляка и, быть может, соплеменника, который говорит о себе не без гордости: «Сы адыгэ», что значит «Я — адыг», — так себя зовут и кабардинцы. Но вот что я увидел в самом лике Кешокова в минуту, когда акт представления состоялся: во всей его стати, в походке, в том, как он держал плечи, в том, как говорил, было нечто бравое, скажу еще точнее — храброе, что имело одно название, по крайней мере в моих глазах: «Адыг!»
Быть может, я не обратил бы внимания на этот эпизод, если бы он не отозвался воспоминанием. О чем я говорю? Весной восемьдесят первого года я был вместе с Кайсыном Кулиевым и Михаилом Дудиным в Венгрии. Поездка была необыкновенно увлекательной: мы проехали Венгрию из конца в конец, побывав у людей искусства: знатока отечественной поэзии Иштвана Карай, скульптора Маргит Ковач... Да, нам повезло: мы были в музее Ковач в Сентендре, а потом посетили Ковач в мастерской, расположенной на утесе, поднявшемся над Дунаем. Мне кажется, необыкновенная фреска Ковач, состоящая из нескончаемой вереницы картин-барельефов, воссоздающих как бы историю человечества, имела свой исток, свой зачин; фреска называлась «Гончар» и символически утверждала — все, что создал человек, идет от гончара: он — творец всего, что красит мир. Быть может, Маргит Ковач чуть-чуть преувеличила роль мастера, управляющего гончарным кругом, но ее можно было понять, ведь она же гончар. Но фреска хотела объять жизнь во всей полноте и не минула эпизода, который воссоздал и войну.
И вот тут Кулиев рассмотрел нечто такое, что отозвалось в сознании. Не помню его слов точно, но вот их смысл:
— Как известно, из нашей Кабардино-Балкарии мы были направлены вместе с Алимом прямой дорогой в Крым и очутились там рядом. Даже интересно: балкарец Кулиев и кабардинец Кешоков. Как на духу готов повторить: он был, как я видел его в Крыму, неустрашим, участвуя в самых отчаянных ратных делах. Кстати, и в небе: он был парашютистом. Умел не просто класть голову за правое дело, а вести за собой народ... Нет, нет, его слова о Доти Кошрокове не выдуманы, у них своя история: понимал, что истинный воин не должен жалеть своей жизни...
История героя «Грушевого цвета» Доти Кошрокова, который был послан прямо с войны на восстановление родного края, быть может, в деталях и не повторяет историю Алима Кешокова, но у меня есть уверенность, что в ней отразились автобиографические черты. Это прежде всего верность краю, породившему человека, понимание, что, только собрав свои силы воедино, можно возродить родную сторону.
Когда мы говорим о Кавказе, мы называем его подчас многоплеменным. Тут, очевидно, участвовали горы: это они, горы, точно утесами-ножами, порезали край на долины и ущелья, поселив в каждом из них свое племя, сложив свою историю, свой строй быта, дав силу обычаям и языку. Нужна была сила, которая, оставив горы нетронутыми, как бы разрушила эти барьеры, образовав сообщество, у которого и цели единые, и нравственные принципы одни.