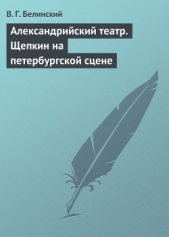Обретение мужества

Обретение мужества читать книгу онлайн
В книге К. Щербакова «Обретение мужества» речь идет о некоторых явлениях театра, кинематографии, литературы последних лет. Спектакли Московского Художественного театра и «Современника». Малого театра и Большого драматического, вахтанговцев и театра на Таганке, повести С. Антонова и В. Липатова, актерские работы в кинематографе, в театре Т. Дорониной и О. Яковлевой, Н. Плотникова и Б. Бабочкина, М. Царева и Е. Лебедева, О. Ефремова и О. Табакова, С. Бондарчука и И. Смоктуновского, Е. Леонова и Д. Джигарханяна... В небольшой по объему книге много названий и имен, причем нередко таких имен, которые именно в эти годы обрели известность.
Широкий круг спектаклей, фильмов, книг, в которых автор видит выражение важных гражданских, нравственных тенденций времени. Круг произведений, которые так или иначе развивают, подкрепляют основную тему книги, тему обретения мужества, духовной зрелости как художниками, их героями, так и читателем, зрителем.
Размышляя о художественных произведениях, автор выходит на прямой разговор о жизненных процессах, вызвавших эти произведения к жизни. Театральные, литературные, кинематографические персонажи постоянно соотносятся с реальностью, с людьми, в ней существующими и действующими. Органичное соединение критики с публицистикой — неотъемлемая особенность этой книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все время пишу — коломийцевы, имея в виду не только обобщающий смысл фигуры Ивана. Нет, речь злесь не столько, быть может, даже о нем персонально, сколько обо всем семействе, представшем перед нами в спектакле. Дав зрителям возможность вглядеться в лица, ощутить достоверность живых человеческих характеров, режиссеры постепенно начинают подступаться к фарсу как наиболее точному способу показа будней коломийцевых, где нормальные связи нарушены, взаимоотношения перекошены, а сама норма являет собой законченный образ анормальности.
То Иван и сын Сашенька, услышав сообщение околоточного Якорева (артист Е. Киндинов; о том, чго он провел ночь с Верой, в остервенении запихнут его на буфет, а тихий, интеллигентный Яков будет кричать о том, что любовь — цветок, и взасос целоваться с перепуганным околоточным. То слабоумная нянька (артистка Г. Шостко) станет пророчить замужество и множество деток Вере именно в момент ее скандального объяснения с опротивевшим Якоревым. То Надежда с Любой затеют драку — натуральную, с выдергиванием волос и истеричным катанием по полу... Нелепость, абсурд, трагический балаган, причем с явным акцентом на втором слове.
О трагическом балагане осуждающе говорит Петр (артист А. Дик), и сам оказывается полноправным его участником, несмотря на красивые сентенции вроде, например, таких: «Мне нужно знать правду»... «Разве дети для того, чтобы стыдиться своих отцов?» Сентенции-то по-разному оборачиваются. «Какая она величественная, а? ...Вот мать... — говорит Петр после ухода Соколовой, — точно из другого мира». Правильно говорит, а слушать неприятно, ибо в интонации, в стоящем за ней образе мышления явственно дает о себе знать коломийцевское. Возвышая, он не может не унижать. Возвеличивая Соколову, вполне умышленно топчет собственную мать, да еще как топчет — мимоходом, между прочим, а это, согласитесь, гадость. И о знакомстве с революционером Кириллом Александровичем он говорит исключительно как о собственной доблести, в пику окружающим, которым до его, Петра, душевных красот, понимаете ли, не подняться. А само знакомство сказывается случайным, непродолжительным. «Там — строго! Там от человека требуют такую массу разных вещей: понимания жизни, уважения к людям и прочее». Обыкновенной человеческой ответственности требуют, короче говоря, а коломийцевы к ней не приучены. Развязывая низменные инстинкты, провоцируя на подлые поступки, общество дает за это коломийцевым право, столь привлекательнее для натур трусливых и мелких, — право не чувствовать себя ни за что лично ответственным. «Ну да, конечно, я отчасти виноват... все виноваты, Софья, все виноваты», — скажет Иван, когда ощутит смутную потребность в оправдании. Все виноваты, а значит, никто персонально — Петр попробовал жить иначе, и не смог, сразу же надорвался. Правда, к которой он взывал, открывшись, не принесла ему избавления, он останется в опостылевшем, невидимом, но единственно для него возможном кругу... «Туда» не пойдет «Там — строго!»
А Вера (артистка О. Широкова), глупенькая, вздорная Вера, создавшая для себя идеал героизма, которому вполне соответствуют полицмейстер папа и околоточный Якорев. Вернее, его, этот идеал, создали для нее и ей подобных. Ничего иного создать не могли: обществу, у которого для истинных героев есть только всевозможные меры пресечения, в своих версиях официального героизма трудно выйти за пределы полицейского круга. Но вот нелепый, смехотворный идеал рухнул — что же осталось? Вот тот же цинизм, которым, каждый по своему, пробавляются и папаша, и брат Александр, и сестрица Надя ..
А Софья (артистка Г. Калиновская) добрая вроде, мягкая — она ведь тоже безропотно следует заданной ей гнусным временем колеей, много лет живет с палачом и развратником, вовсе не заблуждаясь относительно подобных его качеств. Отдадим себе в этом трезвый отчет, — от доброты и мягкости много ли останется? И Яков (артист М. Прудкин), кормилец и добрый гений разложившейся семьи полицмейстера — можно ли выдумать более злую насмешку над его былым прекраснодушным идеализмом? И Люба (артистка Н. Гуляева), неспособная выйти из круга своей озлобленности на всех и вся...
Кто-то из коломийцевых противен, кого-то жаль. Но жалость отступает перед непреложностью истины никто из них не противопоставил себя подлости буден, все оказались их органичной, неотторжимой частью. Буден агрессивных в сто й тупей инерции, преграждающих дорогу к новой жизни, которую проповедовал, в которую веровал Максим Горький.
Актерски спектакль небезупречен. Пожалуй, вернее всего назвать его переходным, когда современная сценическая эстетика коллективом участников еще не освоена, а осваивается.
Не все чувствуют себя естественно на заданной режиссурой грани бытового реализма и гротеска. Есть прекрасные моменты у Иванова, Киндинова, Михайлова, Гуляевой. Есть в сценическом действии куски, где фарсовый прием, не обжитый еще, не освоенный актером изнутри, так и остается приемом, а не реальной деталью жутковатой жизненной фантасмагории. Однако единство эстетических устремлений всех участников спектакля, упорство в движении к общей цели — безусловно. Это обстоятельство, как и острая социальность цементирующей спектакль режиссерской мысли, делают «Последних» во МХАТе театральным событием заметным и чрезвычайно обнадеживающим.
Если «Последние» — спектакль умной и сильной режиссуры, в котором есть складывающийся ансамбль, но выдающихся актерских работ пока нету, то «Достигаев и другие» в Малом театре определяется прежде всего блистательной работой актера. В роли Василия Ефимовича Достигаева выступил Борис Бабочкин.
Из пьесы Горького «Егор Булычов и другие» Достигаев исчезает со словами: «...демонстрация идет... Надобно примкнуть...» Из пьесы, но не с исторической арены: не таков Василий Достигаев, чтобы взять и так вот просто исчезнуть. «Егор Булычов и другие» заканчивается февральскими днями 1917 года, действие другой горьковской пьесы, «Достигаев и другие», происходит в канун Октября. Другие здесь — это судовладелец Нестрашный, промышленник Губин, игуменья Меланья. Лица, обреченные на скорый уход. Исторические события ничего не изменили в их раз и навсегда запрограммированных мозгах, мысль об уступках поднявшимся на борьбу народным массам для них дика, противоестественна, — только окрик, только насилие, только беспощадное подавление. Обломки старой жизни, идущие на дно в бурном революционном море. А Достигаев еще до февраля заметил: «...что будет революция, так это даже губернатор понимает...»
Первое живое чувство, которое вы различаете в герое Бабочкина за ухмылочками, кривлянием, подначиваяием — озлобленность на губиных и нестрашных, прозорливость которых он, размышляя о губернаторском уровне понимания, явно переоценил. Различаете, когда с начала спектакля времени прошло уже немало: прорывается это в нем редко, мимолетно, невольно. Какой-то миг — и снова шутовские ужимки, прибаутки, которые как хочешь, так и понимай. Снова удаляется он со сцены семенящей, какой-то глумливой походочкой, в который раз оставив партнеров по прежней жизни в неведении относительно своих мыслей и предполагаемых действий.
Василий Ефимович — человек почти что физически ускользающий. Увлеченно наблюдаете вы, с каким блеском воплощает Бабочкин хитроумную достигаевскую игру, сущность которой в том, чтобы говоря обильно, ничего не сказать. Игру, которая даст возможность, не нарушая до поры общепринятых норм поведения своего круга, в нужную минуту без видимых психологических натяжек истово отмежеваться от бывших партнеров, в слепой ненависти своей не желающих понять, что революционный народ сейчас — решающая и реальная сила. На них, на бывших партнерах, — крест Вольно им лезть на рожон, самим совать голову в петлю. Достигаев — иной. Достигаев соображает, что нынче ему стучать кулаками не сезон, что в повестке дня — выжить, а там... там чутье подскажет, когда снова можно выбираться на поверхность.
Только дважды Достигаев, пожалуй, явственно, всерьез выходит из точно рассчитанного образа. Когда узнает о самоубийстве дочери — Бабочкин, думается мне, совершенно прав, давая несколько секунд неподдельного смятения. Никакой самый прожженный циник не гарантирован от живых человеческих потрясений. Другое дело, насколько быстро он справится с собой, придет в состояние, допускающее возможность спекулировать на собственном горе. Достигаев справляется быстро: очень уж момент ответственный, как раз такой, когда-либо выкрутишься, либо бесповоротно завязнешь.