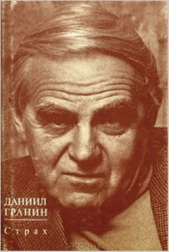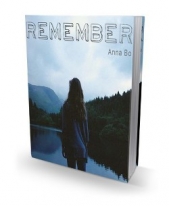Какого цвета страх

Какого цвета страх читать книгу онлайн
Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Хинштейн — один из самых известных журналистов современности. Его статьи никогда не проходят незамеченными. То, о чем в них рассказывается, всегда задевает за живое как читателей, так и тех, о ком он пишет. Мы предлагаем вашему вниманию первую книгу талантливого журналиста — своеобразную хронику коррупции, убийств, правового беспредела. Герои публикаций Александра Хинштейна по сей день живут рядом с нами. Оглянитесь: наверняка вы их хорошо знаете. Подлинные имена, реальные события — где правда, где вымысел?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Своего первого следователя — капитана Рубашкина — я увидел в изоляторе временного содержания «Хорошево-Мневники».
Уже под вечер дежурный контролер поднял меня с деревянной шконки и завел в комнату свиданий. Капитан Рубашкин, радостно улыбаясь, двинулся мне навстречу, протянул руку. Улыбка была его главной отличительной чертой. Он весь светился, словно не было для него приятней занятия, чем допрос в субботний день.
«Вы хоть понимаете, что творите?» — зло спросил я, ощущая, как проклятый запах немытого тела медленно заполняет тесную комнатку.
«Вы только не волнуйтесь, — широко улыбнулся Рубашкин, — мы во всем разберемся».
«Но я же ни в чем не виноват».
«Разберемся».
Он старательно заполнил протокол допроса. Без каких-либо эмоций написал, что обвиняемый Хинштейн отказывается от показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Так же спокойно отреагировал, когда я вписал в протокол, что считаю возбуждение дела незаконным и инициированным замминистра внутренних дел Рушайло.
Он вообще был на редкость спокойным и выдержанным, этот капитан Рубашкин. Спокойно объявил, что мне предъявляется обвинение. Спокойно сказал, что мерой пресечения избирается подписка о невыезде. Спокойно выпустил на волю, пожелав всего самого доброго.
Только потом, уже на воле, я узнал, что начальник ГУВД Николай Куликов, прилетев из командировки на другой день после моего задержания, приказал немедленно меня освободить. Что замначальника Следственного управления ГУВД полковник Зотов, выполняя волю Рушайло, сделал все, чтобы приказ не был выполнен. Что министр Степашин, которого просто затерроризировал звонками Лужков, распорядился все же выпустить меня из тюрьмы. Что Рушайло в свою очередь запретил делать это раньше, чем будет предъявлено обвинение.
Там же, в камере, мысли мои были заняты совсем другим. Я лежал на деревянной шконке и ждал: ну когда же появятся посланцы Рушайло с интересными предложениями. И — чего уж греха таить — готов был сломаться, пойти на компромисс.
Но они не приехали. Точнее, встречу не разрешил следователь. Следователь понимал: если разговора у нас не получится и я подниму шум, отвечать придется ему.
Когда-то давно, года три или четыре назад, делая интервью с одним замминистра, арестованным по обвинению во взятке, я спросил его:
«Что вы ощутили, выйдя на свободу?»
«Я понял прелесть многих вещей, которую не понимал раньше, — ответил замминистра. — Я понял, какой это кайф — ходить, куда вздумается, какой кайф — принимать горячую ванну, встречаться с друзьями».
Эти слова показались мне тогда не то чтобы несерьезными — мелкими, что ли. Подумаешь, горячая ванна! Это как болезнь: здоровому человеку, как бы ни хотел сострадать он больному, все равно никогда его не понять. Для этого нужно заболеть самому…
Сейчас, когда я пытаюсь оживить в памяти камерные воспоминания, в голову не лезет ничего путного. Какие-то обрывки, куски. Словно негатив, на котором то проступают, то снова исчезают размытые очертания чего-то забытого.
Помню, как горела под потолком чахлая лампочка. Как через маленькое воздуховодное отверстие в окне, затянутом толстенным, чуть ли не метровым пуленепробиваемым стеклом, разглядывал я стоящую напротив двенадцатиэтажную башню. Представлял, как вот сейчас в этом доме напротив обедают или ужинают люди. Как смотрят телевизор, занимаются любовью, принимают гостей, и им нет никакого дела до меня и моей тюремной судьбы.
Еще помню, как тяжело было без газет и книг — единственный номер «Советского спорта», принесенный сердобольными надзирателями, был выучен мной наизусть, вплоть до футбольной таблицы. Потом, правда, подсаженные ко мне уголовники поделились любовным романом в мягкой обложке («Книжка за любовь», — сказали они).
Помню, как проснулся от крика контролера — на жесткой деревянной шконке, с пиджаком, подложенным под голову. Проснулся и с ужасом понял, что сон, в котором снилось мне что-то хорошее и цветное, улетучился и что нахожусь я в тюремной камере.
Помню вкус баланды — прозрачной, чуть зеленоватой водицы, в которой плавала пара горошин.
Но помню я и другое — как пахла свобода, когда вечером 15 мая я вышел из тюремных ворот. Она пахла распускающейся зеленью, вечерней прохладой, бензином, одеколоном друзей, которые пришли меня забирать, и ещё чем-то неуловимым, знакомым с детства.
Те, кто хоть раз почувствовал этот запах, совершенно по-другому смотрят на мир. Ведь для того чтобы оценить что-то по-настоящему, этого чего-то хоть на какое-то время надо лишиться…
Конечно, я мог бы выставить себя этаким бесстрашным героем. Написать, что ничего и никого не боялся и не боюсь, что все происходящее давалось мне исключительно легко.
Мог бы, но не хочу. Лучше уж вообще ничего не писать, чем врать… Страх — одно из самых сильных человеческих чувств. Некоторые философы (Ницше, например) утверждали, что страх, в принципе, двигает человечеством и прогрессом. Не знаю, может, и так…
Девять месяцев я жил под дамокловым мечом. Девять месяцев каждый звонок в дверь заставлял меня внутренне вздрагивать — не за мной ли?
Время от времени мне передавали «приветы» от моих героев. Герои рекомендовали не делать лишних движений, иначе… Но было уже поздно. Нельзя останавливаться, если мчишься на мотоцикле по отвесной стене. Затормозишь — погибнешь.
Страх приходит не сразу. Только потом, спустя какое-то время, начинаешь понимать, на грани чего ты балансировал, и тогда тебя охватывает вязкое ощущение ужаса.
Лишь на другой день после того, как меня не смогли увезти на обследование во Владимирскую психбольницу — помешали пулей приехавший адвокат и толпа коллег-журналистов, сгрудившихся на лестничной площадке, — я вдруг осознал, чего избежал. Ведь сейчас, в эту самую минуту, меня могло бы уже не быть. Точнее, я — был бы не я. Один укол — и все. И никакие Рушайло с Березовским меня бы уже не волновали.
А потом на смену страху пришла злость. И злость эта была намного сильнее. Злость сильнее страха, чего бы там ни говорил Ницше…
…Я был неправ, когда описывал своих следователей. Их всех — таких разных и непохожих — объединяли не улыбки и суетливость, а, главным образом, совсем другое: чувство власти и всесилия. Совершенно обычные, даже заурядные люди, они получили право решать человеческие судьбы. Карать и миловать. Сажать и освобождать. И право это опьяняло их.
Вы никогда не задумывались: почему чем меньше уровень начальника, тем больше значения он придает собственной персоне? Именно потому, что власть дурманит голову почище любой водки.
Я не знаю, о чем думали эти люди, мучились ли внутренним раскаянием, оттого что травят невиновного, травят по приказу сверху, или просто старались не думать об этом, ведь если закрыть глаза — ты ничего не увидишь.
Может быть, они успокаивали себя тем, что от них ничего не зависит. Откажутся они — придут другие. Скорее всего, так и было. И это самое страшное.
Мы все время вспоминаем 37-й год. Поражаемся: как это могло произойти? Именно так.
И именно поэтому один-единственный отступник намного опаснее для любого режима, чем тысяча шпионов и диверсантов, вместе взятых. Взорванные шахты можно восстановить. Взорванное, перевернувшееся сознание не восстановишь никак. Даже страхом…
Третьего по счету и, слава богу, последнего своего следователя Савинкина я видел всего дважды. Первый раз мы столкнулись в приемной директора НИИ психиатрии, куда мне пришлось лечь, дабы не очутиться в казематах Владимирской психиатрической больницы. Он приезжал проверить: правда ли, что я здесь.
«Убедились?» — спросил я.