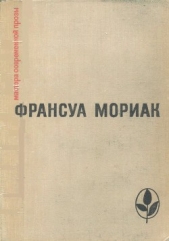He покоряться ночи... Художественная публицистика
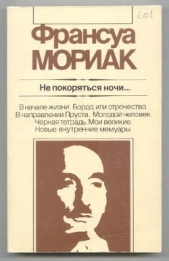
He покоряться ночи... Художественная публицистика читать книгу онлайн
В сборник публицистики Франсуа Мориака (1885—1970), подготовленный к 100-летию со дня рождения писателя, вошли его автобиографические произведения «В начале жизни», «Бордо, или Отрочество», афоризмы, дневники, знаменитая «Черная тетрадь», литературно-критические статьи.
Рекомендуется широкому кругу читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Всякий раз, когда кто-либо из моих собратьев по перу отходит в вечность и я говорю надгробное слово, мое представление о смерти скрыто или явно вступает в противоречие со взглядами агностиков и атеистов. Словно от одной агонии до другой, у смертного одра Жака Ривьера и у смертного одра Жида идет одна и та же религиозная война.
Однажды летним утром в залитом солнцем номере гостиницы я услыхал по радио: «Скончалась Колетт». В другой раз, тоже в гостиничном номере, вдруг резко, словно надпись на могильном камне, прозвучало имя Роже Мартен дю Гара. Перед уходом человек кладет руку нам на плечо. К нашему горю примешивается страх — с таким страхом мы прислушивались в детстве к осторожным шагам на лестнице. Камера людей, родившихся в прошлом веке, пустеет, и нас, пишущих в ожидании того, как раздастся наше имя и придет наш черед встать, осталось уже мало.
Мартен дю Гар... Братья-соперники, мы редко встречались, но внимательно следили друг за другом. В определенном смысле он ничего мне не спускал, потому что, как я уже говорил, между нами шла религиозная война: я думаю, он не испытывал ко мне ненависти, со своей стороны могу заверить, что не питал ее и я. Нас разделяла непреодолимая преграда: мы дали разные ответы на вопрос, с самого начала вставший перед нами, вопрос, который мучит писателя, родившегося, как мы оба, в христианской стране, в буржуазной и консервативной семье: будешь ли ты покорен? или восстанешь? «Жан Баруа» был первым ответом молодого Мартен дю Гара, а «Семья Тибо», которую этот отпрыск крупной буржуазии писал книгу за книгой, со скрупулезной добросовестностью, подкрепленной безукоризненным мастерством, явилась неопровержимым обвинением, которое он предъявил своему классу. В чем-то мы с ним схожи: в социальном и политическом плане мы вели себя одинаково, война, шедшая между нами, была, повторяю, войной религиозной.
Исчерпывающее представление о ней дает спор, который возник у нас после смерти Андре Жида. Речь шла о последних словах Жида. Профессор Делэ спросил его: «Вы страдаете?» А Жид (цитирую по памяти) отвечал: «Да, эта вечная борьба между тем, что доступно разуму, и тем, что ему недоступно...»
Я не утверждал, что эти слова имеют метафизическое значение, я просто высказал такое предположение. У Жана Делэ, слышавшего их своими ушами, не было на этот счет никаких сомнений. И тогда Мартен дю Гар ринулся в бой.
Этот инцидент проливает свет на борьбу, завязавшуюся вокруг Жида в кругу основателей «Нувель ревю Франсез» *, где было столько умов, осененных благодатью: Жамм, Дюпуэ, Геон *, Ривьер, Копо *, Дю Бо *... В отличие от своего учителя и друга Роже Мартен дю Гар всегда избирал то, что «доступно разуму». Их связывала непохожесть: как плющ, как вьюнок, Жид обвивал этот основательный и здравый ум, верный натуралистической манере письма. Ученик внимательно читал и строго судил рукописи учителя. Взамен учитель помог ему сохранить то, что в этом кругу зовется свободой суждения. Хронология очень важна, а у меня сейчас нет никакой возможности точно выяснить, когда они познакомились, до или после выхода «Жана Баруа» *. Но так или иначе, мировоззрение Жида могло — в той или иной степени — повлиять на мировоззрение Мартен дю Гара. Взгляды Жида не исчерпываются имморализмом: сам он немалую часть своей жизни прожил в высшей степени добропорядочно. Мартен дю Гар славился такой беспристрастностью, что служил для нас образцом неподкупной суровости. Но сколько, оказывается, было в нем страсти! Сколько недоверия к христианам, особенно перед лицом таинства смерти! Помню мрачные споры у смертного одра Жака Ривьера: у Мартен дю Гара выходило, что католики всегда начеку, потому что думают только о том, как бы вписать лишнее имя в свой список. Мы и вправду все время думаем о своей смерти и о смерти тех, кого мы любим, но дело тут вовсе не в желании католиков поставить на своем: ведь для верующего этот переход решает все, ибо в этот миг его осеняет благодать.
Не знаю, существует ли более бескорыстное чувство. Конечно, у постели умирающего друга мы думаем и о себе: одинокий, в луче света, невидимого другим, человек проходит в эти часы испытание — испытание своей веры. Свет был дарован миру, а люди отвергли его — может статься, они его просто не заметили? Почему же они не заметили его? Ах, должно быть, я, обвиняемый в янсенизме, не из тех, кто с легкостью соглашается войти в горстку избранных.
Я уже сказал: я свято верю, что каждого из нас в последние минуты жизни осеняет благодать. Вот почему последние слова Жида так важны для меня. Вечное царство любви или вечное ее отсутствие — вот перед каким выбором стоит, в глазах верующего, всякий умирающий. [...]
Глава VII
...Что такое счастье? Существует ли оно вне нас, если мы несчастливы? Весенним утром, когда туман напоен ароматом сирени, когда над головой трижды призывно кричит удод и — если дело происходит в воскресенье — в опустевшей деревне негромко звонит колокол, все вокруг дышит нежностью и радостью. Но разве радость и нежность только во мне? А разлитая повсюду неосязаемая чистота, а безбрежная девственность? Разве эту девственность создает мой взгляд? Мы живем в такое гнусное время, когда гибель грозит всему роду человеческому. Переживет ли нас весна? Если она — порождение моего сердца и ума, то, разумеется, нет. Если на Земле, единственной среди миллионов планет, возникло то сочетание тепла и материи, которое мы зовем природой, родились случайно те тела, окрашенные в зеленый, голубой и охряный цвета, сочетание которых не менее случайно, то, быть может, все дело в нас, в том, что это мы вносим в мир порядок и гармонию, дочь нашего разума. Каким художником предстает тогда самый последний варвар! И даже больше, чем художником, — богом: слабым, нежным, страдающим, способным вселять в свое творение скорбь, которой бог не ведал бы, если бы не воплотился, если бы не испытал предсмертных мук в саду на пасху — в то самое время года, что стоит сейчас, когда я пишу эти строки. И апрельская ночь леденила кровь, потому что Симон Петр отрекся от Него во дворе первосвященника, у костра, зажженного легионерами и служанками *.
Пожалуй, только вместе с нами пришли в божий мир щемящее сожаление об утраченном детстве, нежность, которой мы навсегда лишились, наконец, любовь, которая для многих была, возможно, не чем иным, как неутолимой жаждой.
Если бы спящая ночь не была полна молчанием Тристана и Изольды *, если бы скамья, где они переживают тот блаженный миг, после которого остается только умереть, навсегда опустела, если бы мужчина и женщина исчезли из мира — в ночи остались бы лишь тьма и небытие. Я вижу, что значит человек для ночи, я вижу, что без нашего страстного сердца даже самая нежная ночь была бы ужасна. Но ясность весеннего утра ставит другой вопрос: мы знаем, что чистота его не в нас. Она существует сама в себе, сама по себе, но ищет своего выражения.
Она ищет своего выражения. Пожалуй, именно по этой причине нам чуждо абстрактное искусство: я утвердился в мысли, что мир нуждается в нас, и человеческое искусство есть выражение этой необходимости. В юности я был уверен, что, когда состарюсь, сумею избежать разлада с современностью, сумею не брюзжать на новые времена, но надо признать, что мне это плохо удалось — под конец жизни я ворочу нос от современного искусства. Природа, которую я так любил, похожа на спящую красавицу, но уже нет надежды, что поцелуй какого-нибудь художника или поэта пробудит ее от этого зловещего сна. Абстрактное искусство свидетельствует, что человеку нечего сказать, нечего выразить, нечего запечатлеть — недаром он отворачивается от мира, такого, каким его видит взгляд ребенка... Впрочем, какой смысл говорить о том, что никого, кроме меня, не волнует?
Я пишу, сидя на каменной скамье, в смутном гуле. Полдень. Солнце почти совсем сожгло сирень. Даже птицы угомонились и поют вполголоса, словно говорят сами с собой. Почти два месяца не было дождя. Земля так закаменела, что невозможно пахать. Апрель сейчас или август? Далеко, над морем, собираются тучи. И мне начинает вдруг казаться, что сейчас разгар другого, давнего лета, жаркого и смертельно унылого. Подросток не воспринимал этот яркий свет как радость. Я смотрю на дорогу, уходящую вдаль, к холму на горизонте, — в ту пору она говорила мне лишь о невозможности бегства. Весна выражает мой сегодняшний утренний покой, покой на склоне лет, как когда-то кузнечики и сверчки в знойные августовские дни устремляли к лазури жалобу юного отчаявшегося существа. Но я по-прежнему не ответил на свой вопрос: сохранило ли бы каждое время года свое неповторимое лицо, если бы никто не смотрел на мир, никто не слышал его?
![Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)