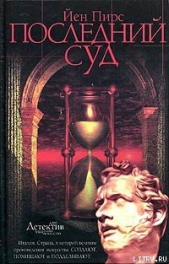Картины Парижа. Том II

Картины Парижа. Том II читать книгу онлайн
У каждого народа есть свой предмет гордости. Всеобщая любовь французов - Париж. А может быть, не только французов. Ведь Париж - это вселенная в миниатюре.Кто из нас не мечтал побывать в этом убеленном сединами веков и все же никогда не стареющем городе? Что помогает ему оставаться вечным полюсом притяжения для многих поколений европейцев и американцев, индусов и африканцев? Как умудряется он сочетать причудливую старину с режущей глаз экстравагантностью новых веяний, обычаев, нравов? На многие эти вопросы дает ответ книга очерков о Париже замечательного французского философа, писателя, публициста Л.-С. Мерсье.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Услуги, оказанные Французской академией нашему языку, очень малы, чтобы не сказать — ничтожны. Без этого учреждения язык достиг бы гораздо более быстрых и значительных успехов. Что может быть гибельнее идеи — обречь язык на полную неподвижность, в то время как другие искусства двигаются вперед! Что может быть нелепее того догматического тона, который порой себе присваивает Академия! Насмехаясь над Сорбонной, не повторяет ли она сама только старые слова, не руководствуется ли старыми авторитетами, подобно теологам, которые брюзжат на своих скамьях?
Это учреждение, состоящее, правда, из хороших писателей, но включающее далеко не всех их, имеет свою ценность, но лишь пока речь идет об отдельных личностях. Собравшись вместе, ее члены разделяют судьбу всех вообще корпораций: становятся мелочными, порождают одни только мелкие идеи, пользуются только мелкими средствами, руководствуются лишь мелкими соображениями. Это учреждение было бы полезно, если бы стряхнуло с себя жалкие предрассудки и осмелилось бы развить в себе вкус, диаметрально противоположный тому, каким оно вдохновляется теперь, — другими словами, если бы взамен местной, условной манеры, напоминающей манеру отдельной живописной школы, оно постигло бы беспредельность искусства, выражающего человеческую мысль, если бы оно допускало любой колорит, любую манеру и поняло бы, что не существует никаких постоянных правил для искусства, запечатлевающего на бумаге могущество наших мыслей и пылкость наших чувств.
Благодаря тому, что писатели составляют в Академии только маленькую группу, характер этого учреждения быстро искажается; оно начинает само себе вредить и, помимо воли, принимает в свою среду собственных же врагов. У Академии нехватило мужества отказаться от чужеземной награды; доверие к Академии много раз было подорвано интригами, а потому в глазах бедного, гордого и скромного литератора вскоре совсем потеряет всю прелесть единственное место, которое предоставляет ему родина и которое могло бы вознаградить его за труды. Для вельможи является только лишним наслаждением лишить этого места писателя, не имеющего за собой ничего, кроме общественного мнения. Добрейший и чистосердечный Патрю {132} произнес следующую речь, когда Академия вздумала принять в свою среду одного невежественного вельможу вместо известного писателя: В древние времена у некоего грека была превосходная лира. Когда у нее лопнула одна струна, он заменил ее не кишечной, а серебряной струной, И лира потеряла всю свою гармоничность.
Мне кажется, что писатели хорошо бы сделали, если бы во-время отказались от этой коварной награды. Их таланты приобрели бы бо́льшую мощность и непринужденность. Они не стали бы тогда безрассудно отказываться от славы, которая ждет их за пределами столицы, ради известности в Париже, всегда бурной и вспыхивающей только затем, чтобы вскоре угаснуть.
В академиях писатели видят друг друга слишком близко; недостатки каждого кажутся еще бо́льшими, чем они есть в действительности, самолюбие обостряется, интересы расходятся, нет больше взаимного согласия, гармония нарушена. Мне очень нравится ответ поэта Лене {133}. Один академик предложил ему предпринять что-нибудь, чтобы войти в эту корпорацию. Поэт гордо ответил: Хорошо; но кто же тогда будет вас судить?
Академия, занятая своими интересами, недостаточно отдает себе отчет в том, что читающая публика следит за выборами, обсуждает их и считает нелепостью, когда избранником является незнакомое ей лицо. Когда начинают обсуждать сомнительные заслуги, публика возмущается и смеется над никому неведомым избранником.
Некоторые академики разыгрывают роль гения. Но гениальность подобна стыдливости: ее невозможно сыграть.

Кофейня. С гравюры Сент-Обена.
Теперь уже Академия не предлагает в качестве темы ежегодного конкурса вопрос: В чем заключается высшая добродетель короля?, как бывало в царствование Людовика XIV. В наши дни писатели, входящие в ее состав (надо им отдать эту справедливость) не ограничиваются наблюдением за чистотой стиля; они считают себя призванными исправлять нравы и никогда не позволили бы себе обсуждать такую недостойную и презренную тему.
Отрешившись от лести, академики, однако, не отрешились от некоторого педантизма; у одних он тоньше и искуснее, чем у других, — в этом надо признаться, — но все они верят и хотели бы всех заставить поверить, что Академия действительно представляет собою судилище, повелевающее вкусом и призванное руководить им; что звание академика связано с понятием о непогрешимом знатоке искусств. А между тем это отнюдь не так благодаря пристрастию академиков к своей собственной манере и притворному пренебрежению ко всему, что не подчиняется правилам их школы, а также и благодаря их незнанию многих литературных произведений, иноземных и отечественных, читать и разбирать которые им мешает лень или текущие занятия.
290. По поводу слова «вкус»
Теолог горячится, становится изувером и теряет здравый рассудок при каждом упоминании о благодати, а с академиком случается то же при упоминании о вкусе. Оба стремятся вас убедить во что бы то ни стало и не уступают друг другу в колкостях. Как же не согласиться после этого, что у каждого свой конек? А академик смеется над теологом, когда тот, так же точно, как и он сам, проявляет странные притязания на непогрешимость.
Подобно тому как можно разрушить всю заслугу самого прекрасного и чистого поступка, объясняя его порочными намерениями, так же точно можно обесславить самое прекрасное произведение, применив к нему холодную и мелочную критику. А это опять-таки является делом академика — или завистливого, или разочарованного, или разыгрывающего из себя ученого.
Иной академик говорит: Я обладаю вкусом, потому что не осмеливается сказать: Я — гений. Он прекрасно чувствует, что все знают, что такое гений (ибо гения легко распознать); и, видя, что на гениальности ему нельзя настаивать, ограничивается тем, что называет себя человеком со вкусом. В этом случае с ним никто спорить не будет, так как довольно трудно оспаривать такое мнение, да и не важно, если кто и присвоит себе это звание.
Утвердив же его за собой, академик воображает, что творения его отмечены хорошим вкусом; между тем это отнюдь не так, ибо у него есть вкус только для критики чужого произведения, а не для своего собственного.
291. Академия надписей и изящной словесности
Тут любитель древностей посмеивается над каждым поэтом, который не зовется Гомером или Еврипидом. Здесь Аристотель почитается выше Декарта и Ньютона; чем идеи древнее, тем больше в них ценности. Век Медичей еще не получил здесь прав гражданства.
Иной ученый не удостаивает обратить внимания на колоннаду Лувра, а говорит лишь о древнем храме Цереры, антаблементы, архитравы и прочие детали которого он восстанавливает. Если проиграно сражение, то это объясняется только тем, что теперь забыта сила македонской фаланги.
Апеллес и Зевксис {134} — первые художники мира, потому что их картины от ветхости перестали существовать.
Если мы и создаем что-нибудь сносное, то только благодаря прошлому; древние все сказали, все видели, все разгадали; мы сами не отдавая себе в том отчета, лишь повторяем за ними, в силу законов метампсихоза; сами мы — поколение дегенеративное, выродившееся для искусств, — да здравствуют греки!
Язык наш не стоит древнееврейского, являющегося языком священным; мы приобретем некоторую ценность лишь по прошествии четырех тысяч лет.