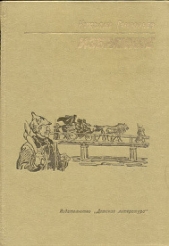Избранное
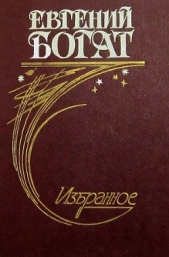
Избранное читать книгу онлайн
В книгу известного советского публициста Евгения Михайловича Богата (1923–1985) вошли произведения, написанные писателем в разное время и опубликованные в нескольких авторских сборниках. В «Избранном» отразились круг литературных интересов Евгения Богата, направленность его творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«…Вы рассказали в последнем письме о студенте-философе, о его теории „вечного человека“. Читал и завидовал легкости, безболезненности его веры и его открытий. Мне это далось, а точнее, дается сейчас намного мучительнее. Хотя я, употребляя уже устаревшие термины, состою в „физиках“, а не в „лириках“ (окончил физфак Новосибирского университета и работаю в хорошо известном Вам Академгородке), но подлинной лирики никогда не был чужд: любимым из современных писателей-фантастов был и остается Брэдбери. (Собственно говоря, и первое письмо к Вам я написал не потому, что мне особенно понравилась Ваша книга, а из-за Брэдбери — показалось, что Вы понимаете его несколько сентиментально. Но не в этом дело…) Однако, даже чувствуя себя до известной степени „лириком“, я никогда не помышлял о том, что сегодняшние чудеса техники через пятьсот, даже сто лет покажутся людям забавными. Допотопными — бесспорно. Но забавными, нелепыми?! Разве нас забавляют орудия доисторического человека? Или потешают парусные суда? Ваш студент-философ очарован лицом Паскаля, которое кажется ему (как образ духовной жизни человека) вечным, в отличие, видимо, от техники или науки той эпохи. Напомните ему от моего имени страницу одной из повестей Гофмана. Там рассказывается о том, что в середине XVII века карета с окнами из настоящего стекла изумляла Париж — на ее пути стояли восторженные толпы. В этой восторженной толпе мог оказаться и Паскаль: середина XVII века — его время. И даже, может быть, он касался пальцем стекла в окне кареты, не веря реальности этого чуда. Ведь жила в Паскале душа ребенка, любознательная и восприимчивая. Лицо, восхищающее Вашего студента-философа, даже на позднейших портретах, когда Паскалю уже за тридцать, — лицо гениального мальчика. Не нужно забывать и о том, что Паскаль был не только нравственным философом („лириком“), но и великим математиком („физиком“). Как человек точного мышления, он относился с большим уважением к развитию техники и науки. К их „чудесам“. Понимает ли это Ваш студент? Я любил и люблю окружающие нас чудеса: мудрый лаконизм форм реактивного самолета рассказывает мне о современном человеке ничуть не меньше, чем музыка Шостаковича. А квантовая механика будоражит воображение различными „странностями“ ничуть не слабее, чем работы ультрасовременных художников. Но не в этом дело. Я пишу, наверное, азбучные вещи.
Дело в том, что однажды мой хорошо уравновешенный мир резко пошатнулся. Я испытал сильное нравственное потрясение, суть которого настолько интимна (хотя речь идет о разрыве не с женщиной, а с мужчиной — старым студенческим товарищем), что подробно писать о нем Вам, человеку малознакомому, нелепо. Я обнаружил за современной формой, отличавшейся, как мне казалось много лет, мудрым лаконизмом и потаенной духовностью, такую нравственную бессодержательность, или, если уж начистоту, полнейшую безнравственность, что отшатнулся, как от смрадной могилы…
Вот и я говорю, что завидую Вашему философу, безболезненности его веры в человека: и вчерашнего, и сегодняшнего, и завтрашнего.
Я пережил тяжелое время, о многом думал и во многом усомнился. И у меня тоже родилась собственная „теория“ — я решил, что мир переходит в новое измерение. Постараюсь сейчас объяснить это с помощью одной исторической параллели, точнее — гипотезы. Вам, конечно, известна версия о том, что некогда, в допотопную эпоху, уже существовала высокоразвитая цивилизация — разумные существа на земле умели летать, открыли электроэнергию, даже овладели тайнами атомного ядра? Потом мировая катастрофа, запечатлевшаяся в памяти человечества как потоп, уничтожила цивилизацию, и те, кто остался, начали с азов… В этой версии бесспорно одно — мировая катастрофа, остальное, по-видимому, игра фантазии. Некоторые ученые, в том числе из моего окружения, объясняют потоп тем, что под влиянием большого космического тела, нарушившего равновесие солнечной системы, изменился наклон земной оси, резко переместились полюса, поднялась исполинская волна, затопившая бесчисленные суши… И вот однажды, когда я возвращался домой по шоссе и навстречу шел нескончаемый поток машин, а надо мной (поблизости аэродром) шли самолеты, я подумал: а ведь и эта новая исполинская волна может затопить ценности, кажущиеся сегодня вечными? (Я имел в виду именно то, что восхищает в человеческом лице Вашего студента-философа.) Не перемещаются ли опять полюса — на сей раз не географические, а нравственные? И я долго мучился этими мыслями. Пишу Вам сумбурное письмо, чуть успокоившись, но тем не менее остро завидуя людям, которым дается радостно и легко вера в „вечного человека“…»
Девочка кончила рисовать, уронила ветку, подняла, растопырив пальцы, над рисунком руку, точно его охраняя. И я подумал: этого легкого усилия, видимо, достаточно, чтобы остановить «новую исполинскую волну», потому что под маленькой — не шире тополиного листа — ладонью живет «раненый бизон».
Когда несколько десятилетий назад в Альтамирской пещере были обнаружены «бизоны», испанские и французские ученые не поверили, что они написаны доисторическим художником. Лаконизм линий, «беглость» мазков, емкость изображения, раскованность композиции казались настолько современными, что международный конгресс в Мадриде поспешил объявить рисунки талантливой подделкой — работой безвестного художника, гостившего незадолго до находки «бизонов» в усадьбе богатого испанского землевладельца рядом с Альтамирой. И лишь когда утих шум сенсации, охладели страсти и — что особенно существенно — подобными «бизонами» оказалась расписанной пещера Комбарель, куда не мог войти ни один из современных художников, ибо вход в нее был замурован, начались серьезные изыскания, установившие возраст рисунков: мадленское время (20–12 тысяч лет до н. э.).
Теперь «бизоны» изучены до мельчайших черточек; им посвящены тысячи умных страниц, где отмечается совершенство изображения и высказываются различные суждения о том, что же побуждало рисовать доисторического художника — избыток сил, вера в магический обряд, бессознательная попытка исследовать окружающую действительность?
Читая строки о «трепете напряженных мускулов и упругости коротких крепких ног бизонов», о хорошо развитом воображении художника, которое, видимо, помогало руке его, живо воссоздавая жестокую реальность: тяжелый бег животного сквозь чащу, его рев, ярость настигающих охотников, — я часто ловил себя на том, что в этих бизонах, особенно в самом поразительном — «раненом», — не замечено нечто весьма существенное для постижения тайны их бессмертия.
В царственной, низко опущенной голове, мощных, детски беспомощно подломленных лапах «раненого бизона» чувствуется доверчивость побежденного к великодушию победителя — то, что через тысячи лет будет потрясать сердца в шекспировских трагедиях. Художник наделил бизона новой истиной и новой красотой. Это были истина и красота самого человека. Его рисунки, даже когда он писал бизонов, исполненных сил, решимости бороться за жизнь, удивительно нежестоки. И странно, что этого чисто нравственного содержания не увидели за «модернистской» манерой маститые искусствоведы, Объявившие их работой современного европейского живописца. Вот он нарисовал бы жестоко!
В этой нежестокости доисторического художника в изображении жестокой реальности (чтобы жить, надо убивать) таилось великое обещание. Его работа исполнена сострадания. И для меня это куда существеннее, чем «совершенство рисунка» и «смелость больших пятен охры».
А когда он окончил работу и вышел из пещеры, где догорал костер и уже видели сны охотники, женщины и дети, его окружила первобытная ночь, первобытный мир. И он, художник, был равновелик этому миру, его безмерности, его бесчисленным тайнам. Он сам был микрокосмом и потому — Творческим Человеком.
Ночь была обыденно неспокойна: шумел ветер, шли сквозь чащу живые бизоны. Но в этом заурядном неспокойствии первобытной ночи можно было расслышать и что-то новое: ударял по камню Микеланджело, настраивал скрипку Моцарт, смеялся Пушкин.