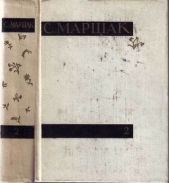Том 5. Публицистика. Письма
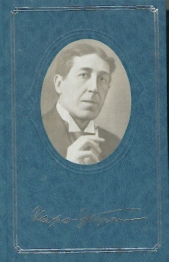
Том 5. Публицистика. Письма читать книгу онлайн
Пятый том содержит прозаические произведения: книгу «Уснувшие весны», работу «Теория версификации», очерки, воспоминания и избранные письма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы стали карабкаться вверх по вагону, напирая снизу на двери каждого купе в отдельности, скользя по линолеуму и поминутно скатываясь вниз, таща за собой несессеры и чемоданы.
С трудом выбравшись на верхнюю площадку, стекло. Двери которой было разбито, я высунулся из него.
Гроза стихла. Непроницаемая тьма. Снизу доносились голоса. Там пылали факелы.
— Други, добейте меня! — раздирающим душу голосом стенал смертельно изувеченный машинист…
Тщетно пробовали мы раскрыть дверь, ютясь на площадке: она не поддавалась нашим усилиям. Наконец мимо нас спускавшимся к паровозу кондуктором мы были через разбитые двери извлечены наружу и стали в кромешной тьме карабкаться по скользкому откосу к полотну. Часть чемоданов осталась внизу около вагона, и за ними пришлось послать, щедро его одарив динарами, какого-то албанца. Весь состав поезда, оказалось, стоял на рельсах. Свернулись вниз только паровоз, багажный и наш вагоны… Катастрофа произошла из-за грозы: громадный осколок скалы, подмытый ливнем, упал на рельсы перед проходом поезда Путь в этом месте чрезвычайно изгибист: машинист из-за уступа не мог издали заметить опасность, паровоз налетел на осколок, подскочил, — что называется на дыбы встал, — и ринулся вниз в речку Неретву, мелкую и порожистую. Багажный вагон раздавил его и частью сам себя в щепы, наш же уперся в них и, следовательно, удар уже был отчасти смягчен. Все это произошло между станциями Мостар и Яблоница. Через час из Яблоницы был подан вспомогательный поезд, и все пассажиры, перелезши через злополучный осколок разместились в вагонах. Немец-турист оказался между ними. Я не знаю, каким образом выбрался он из вагона. С большим опозданием прибыли мы в Сараево, где были встречены нашими знакомыми, обеспокоенными за нас. Они уговорили нас сделать остановку и поехать к ним отдохнуть.
Рождество 1931 года судьба предназначила нам провести снова на благословенных берегах зеленой Адриатики. Мы снова жили в Дубровнике у Сливинских, снова наслаждались красотами Далмации, снова упивались ее животворящим воздухом и таким же розовым вином.
В 1933 году мы побывали там в третий раз. И вот, каждый раз, когда поезд приближался к тому знаменитому перегону Мостар — Яблоница, будь то ночью или днем, у нас появлялось чувство какого-то ожидания, и воспоминание вновь и вновь ярко рисовало ночь, предсказанную вдохновенным ясновидящим. Сбылось и его предсказание относительно замка: лето, осень и часть зимы 1933 года нам пришлось провести в замке Храстовец, в Словении, вблизи Марибора, где были и горы, и много цветов, и речка Песница, приток Дравы…
10 января 1940
Нарва-Йыэсуу
Игорь-Северянин беседует с Игорем Лотаревым о своем 35-летнем юбилее
Нарва-Йыезу. Начало улицы Свободы. Маленький домик. Из окон продолговатого кабинета-столовой видна зимняя Нарова. Окон — три, и через них открывается влекущий ландшафт: широкая зальденная река, луга рощи, дальние крыши Вейкюла. Низкий, ослепительно-белый потолок делает всю комнату похожей на уютную каюту. Комната выдержана в апельсиново-бежево-шоколадных тонах. Два удобных дивана, маленький письменный стол, полка с книгами, несколько стульев вокруг большого стола посередине, лонг-шэз у жарко натопленной палевой печки. На стенах — портреты Мирры Лохвицкой, Бунина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Рериха; в углу — бронзовый бюст хозяина, работы молодого эстонского скульптора Альфреда Каска. Игорь Северянин сидит влонг-шэзе, смотрит неотрываемо на Нарову и много курит.
Я говорю ему:
— Итак, уже 35 лет, как вы печатаетесь.
— Этими словами вы подчеркиваете мой возраст, — смеясь отвечает он. — Пять лет назад я справлял 30-летие. Сегодня я постарел на пять лет. Почему не принято справлять пятилетнего юбилея? Воображаю, с какой помпою и восторгом моя петербургская молодежь тогда приветствовала бы меня! За такой юбилей я отдал бы с радостью все последующие 30 лет жизни! Тогда меня боготворили, буквально носили на руках, избрали королем поэтов, сами нарасхват покупали мои книги. Тогда мне не приходилось — дико вымолвить — рассылать их по квартирам почти и вовсе не знакомых людей, предлагать их и навязывать.
Голос поэта резко повышается. На лице его — прежние, гнев и боль.
— Вы теперь что-нибудь пишете? — спрашиваю я, стараясь переменить тему.
— Почти ничего: слишком ценю Поэзию и свое имя, чтобы позволить новым стихам залеживаться в письменном столе. Только начинающие молокососы могут разрешить себе такую «роскошь». Издателей на настоящие стихи теперь нет. Нет на них и читателя, я теперь пишу стихи не записывая их, и потом навсегда забываю.
— И вам не обидно?
— Обидно должно быть не мне, а русским людям которые своим равнодушием довели поэта до такого трагического положения.
— Однако же, они любят и чтут Пушкина, Лермонтова…
— О, нет, они никого не любят, не ценят и не знают Им сказали, что надо чтить, и они слушаются. Они больше интересуются изменами Натальи Николаевны, дурным характером Лермонтова и нецензурными эпиграммами двух гениев. Я как-то писал выдающемуся польскому поэту Казимиру Вежинскому: «Русская общественность одною рукою воскрешает Пушкина, а другою умерщвляет меня, Игоря Северянина». Ибо равнодушие в данном случае равняется умерщвлению.
— Но у вас так много поклонников, вы получаете, вероятно, столько писем и телеграмм…
— Если бы каждый поклонник давал мне всего-навсего по 10 центов в год, — но, понимаете, обязательно каждый, — я чувствовал бы себя совершенно обеспеченным человеком, мог бы вдохновенно писать и, пожалуй, бесплатно раздавать неимущим свои книги. Но таких поклонников или я не знаю, или их вовсе нет. Судя по количеству поздравлений, я не заработал бы больше кроны, — с неподражаемой язвительностью отчеканил поэт.
— Вы довольны статьями и фотографиями, помещенными в газетах в связи с вашим юбилеем?
— В особенности фотографиями. Некоторые из них бесподобны и являются, по-видимому, воистину юбилейными. На некоторых из них я снят с женой, с которой расстался вот уже пять лет. Представляете, как было приятно мне и моей новой подруге, женщине самоотверженной и заслуживающей глубочайшего уважения, лишний раз взглянуть на такую карточку, да еще в газете, да еще в юбилейные дни!
— Еще один вопрос, — сказал я, поднимаясь, — и, извините, несколько, может быть, нескромный. Вы изволили заметить, что больше почти не пишете стихов. На какие же средства вы существуете? Даже на самую скромную жизнь, какую, например, как я имел возможность убедиться, вы ведете, ведь все же нужны деньги.
Итак, на какие же средства?
— На средства Святого Духа, — бесстрастно произнес Игорь Северянин.
<1940>
Заметки о Маяковском
Берлин. 1922 год. Осень. Октябрь на исходе. Сияет солнышко. Свежо. Идем в сторону <…>.
— Или ты не узнаешь меня, Игорь Васильевич? — останавливает меня радостный бас Маяковского. Обнимаемся. Оба очень довольны встрече. С ним Б. Пастернак. Сворачиваем в ближайшую улицу, заходим в ближайший бар. Заказываем что-то легонькое, болтаем.
Маяковский говорит:
— Проехал Нарву. Вспоминаю: где-то близ нее живешь ты. Спрашиваю: «Где тут Тойла?» Говорят: «От ст<анции> Иеве в сторону моря». Дождался Иеве, снял шляпу и сказал вслух, смотря в сторону моря:
«Приветствую тебя, Игорь Васильевич».
В день пятой годовщины Советской власти в каком-то большом зале Берлина — торжество. Полный зал. А. Толстой читает отрывки из «Аэлиты». Читают стихи Маяковский, Кусиков. Читаю и я «Весенний день», «Восторгаюсь тобой, молодежь…» Овации. Мое окруженье негодует.
— Дай мне несколько стихотворений для «Известий», — говорит Маяковский, — получишь гонорар по 1000 марок за строку (времена инфляции). — Я так рад, что и без денег дал бы, но мое окруженье препятствует. Довод: если почему-либо не вернетесь на родину сразу же, зарубежье с голоду уморит.