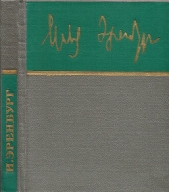Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, учреждение на Пушкинской — для публики помельче. Каперанг как раз туда и подходил. Тетка моя — мелкота, театральный режиссер, не очень угодный Комитету по делам искусств, но кто-то за нее похлопотал — старые знакомства не совсем оборвались. Месяц она подождала, пока место освободилось, и на почти законном основании заняла его. Вот как я попал в то самое заведение сродни «Коммунару», о котором я уже упоминал. На обед здесь давали рагу из мяса, а не котлеты из хлеба, шницель отбивной, а не рубленый, «испанскую птичку» с колбасой, а не фигу с маслом, густой сладкий компот, а не мутную воду с клюквенным концентратом, пирожки с повидлом, а не черствую булочку без начинки. Словом, советское кухонное ворье здесь не гуляло, как хотело и как гуляло в других местах. Сдержка существовала. В воскресный день по коридорам распространялся аромат сдобной выпечки. И жареного лука, между прочим. Его клали горкой на шницель. Тетка ела мало и, несмотря на свою фанаберию, складывала утайкой порцию в баночку, и я уносил добычу домой. Гарнир пюре и соленый огурец. И сегодня бы не отказался, если бы кто, хоть и под халатом, мне — писателю — принес. Еще два слова, и закончу. Давеча лежал в Боткинской, не скажу в каком отделении. Описать, что давали, не в состоянии. Настоящий голод. И последнее: американское. В середине перестройки теща поделилась гуманитарной помощью. Как я понимаю — американцы заслали сюда, что осталось от солдатских обедов после войны в Ираке. Если бы мне пару ящиков тогда, да и сейчас — я бы Львом Толстым стал, ей-Богу! Над словом бы работал, как Флобер или Бунин. А впрочем, возможно, и лучше, что нет этих американских обедов в конверте.
Но одна безответная. В редкие дни к Каперангу приходили посетители. Молодая, довольно привлекательная женщина и двое средних лет мужчин — штатский, маленький, прилизанный, с портфелем и в очках, и военный с лампасами, крупной звездой на погонах, без орденов, медалей и значков. Я почему-то решил, что разведчик. Разведчики ордена не афишируют. Так было при Сталине. Сидели обычно недолго, говорили скупо, всегда о здоровье и въедливо интересовались, не надо ли чего? Ничего здесь никому не надо, лекарств — залейся, еды — хоть подавись. Они уходили не поспешно, но достаточно быстро и деловито. Привлекательная женщина, блондинка, за Каперангом не ухаживала, ничего не приносила и не вела никаких семейных бесед. Она садилась рядом на стул, поддернув юбку как бы невзначай, а он, Каперанг, опускал широкую ладонь на выпуклое белое колено и счастливо улыбался. Прощаясь, она целовала его в лоб, обе щеки и исчезала, покачивая бедрами и распространяя густую струю сладких духов, расползающаяся полоса которых долго не таяла в коридоре, пропитанном столовскими ароматами. Здесь никто так смачно не душился. Однажды я услышал, как она шепнула Каперангу:
— Береги себя. Сбереги себя.
Через два дня подцепил еще одну фразу:
— Мы скучаем. И плачем.
Я хотел спросить у Каперанга: кто мы? — но постеснялся. Теперь жалею, что тогда не дознался: кто мы?
Помню окно, залепленное ливнем, серый день — беспросветный, свежую сырость, просачивающуюся в форточку, и его голос, невнятный и поникший:
— Кому достанется?
Вопрос, ясное дело, вырвался случайно, неизвестно к кому обращенный. Я научился понимать Каперанга с полуслова. И подумал: наверное, достанется штатскому, прилизанному, с портфелем и в очках. А я симпатизировал военному: жаль, что не ему. Каперанг никогда не касался причины, по какой он оказался в Стационаре.
— Третьего не перетянуть, — сказал он как-то генералу. — Ты Строкачу так и передай. Не перетянуть.
Строкач — это не хухры-мухры, это министр внутренних дел или госбезопасности. Строкача в Киеве все знают. И во Львове тоже. Во время войны — главный организатор партизанского движения на Украине, после — наводил известным образом порядок в западных районах. Как-то он лично зашел по надобности в обыкновенное неправительственное учреждение — вахтер не пускает: не положено без документов! А какие у Строкача документы — никаких с собой. Адъютант и порученец в машине. Вахтер «упертый» хохол: не велено! Ну Строкач и говорит:
— Я — Строкач.
Вахтер глянул внимательней и действительно узнал: Строкач! Узнал да и упал в обморок.
— Прекрати, — коротко отрубил генерал. — Не впадай в пессимизм. Надо бороться и победить.
Уходя, он на тумбочке оставил белый конверт. Каперанг потом разделил деньги на две неравные части: большую отдал женщине с круглыми белыми коленями. Она не взяла:
— У меня пока есть.
Меньшую часть Каперанг в конверте пододвинул медсестре. Та поблагодарила, положила в карман и усмехнулась:
— Не надо. Я и так готова все сделать для вас.
— Спасибо. Купи «Шипр» и лезвия.
Немногословная публика окружала Каперанга. По-настоящему влюбившись — очень поздно: все физкультура мешала, — я понял, что слова убивают чувства. Но не Хемингуэй меня тому научил, со своим подтекстом. Вот, собственно, и все, что я услышал в палате и что повторялось два-три раза почти без вариантов.
Медсестра, прежде чем зайти к Каперангу, в коридоре или на лестнице охорашивалась, смотрела в зеркальце, одергивала халат, затягивала потуже поясок, чтоб стать стройней, оглаживала ноги, когда надевала чулки, и только потом переступала порог. Я понимал, к чему все эти манипуляции. Я видел и не раз, как она на лестничной площадке потом вытирала марлевой салфеткой уголки глаз, скрывая, очевидно, от посторонних слезы. Представлялась, будто соринка ей попала под веко. Черт знает сколько соринок здесь летало по воздуху!
Это была любовь втроем или даже вчетвером, потому что и я их по-своему любил. Я только одного не мог понять: почему он женщине с круглыми белыми коленями дал деньги почти вроссыпь, а медсестре — в белом конверте. Я бы поступил иначе: жене ловчее в конверте, если она и жена, а медсестре — так: сложив купюры вдвое. И додуматься про то важное до сих пор не в состоянии. Оттенки ощущений и поступков меня всегда волновали.
Теперь я просиживал у постели Каперанга почти все время, что раньше проводил в палате у тетки, выслушивая наставления. Мать и ее приятельницы постоянно жаловались на меня — то пропускаю школу, то по математике двойка, то вызывали к директору и исключили на три дня: существовала такая форма наказания в школе № 147. Я ненавидел преподавателя Якова Герасимовича, похожего на Кису Воробьянинова в исполнении актера Филиппова. Часто назло неизвестно кому не готовил домашние задания по алгебре и геометрии, а о тригонометрии вообще речи не могло идти. Тригонометрию я ненавидел больше физики, которую преподавал Георгий Люцианович. Уроки я пасовал напропалую. Я дрался с дворовыми до крови, имел приводы в милицию за художества возле лагеря военнопленных, являлся домой поздно вечером и никого не слушался. Вел себя, по мнению взрослых, по-хулигански, что было неправдой. Я занимался самбо, не давал спуску антисемитам, не позволял себя оскорблять и унижать, читал запоем, числился в успевающих по литературе и истории и пользовался расположением девочек — никогда не ругался матом при них и не старался где-нибудь прижать в углу, норовя коснуться груди или залезть под юбку. Все подобные и еще худшие штучки у нас в школе процветали. Про себя думал, что я славный парень и достоин лучшей участи, чем мне, по всей видимости, уготовано судьбой: быть вечно голодным, выслушивать нудные нотации, прятать банку с котлетами под халатом, постоянно оглядываться в подворотне, чтобы сзади не налетели, взирать на укоризненную физиономию Якова Герасимовича, завидовать наркомовским сынкам, носившим недоступные сапоги с отворотами, и еще страдать от тысячи мелочей, из которых составлялась киевская послевоенная жизнь.
Однако судьба оказалась благосклоннее, чем я предполагал, и подсунула Каперанга. Новое знакомство приходилось скрывать и от друзей, и от родных. Зудело с кем-нибудь поделиться, да нельзя. Мы существовали — и существовали по-свински — в эпоху, когда никто никому не верил и все всех подозревали. Вдобавок Каперанг, когда мы сблизились достаточно, велел строго-настрого: