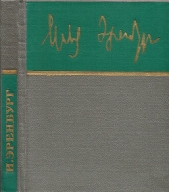Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Трое людей из Политбюро шутят, курят, беседуют». Долгонько шутят! «Как молод и жизнерадостен Ворошилов, человек в зеленоватой военной одежде, со слегка вздернутым носом…» Это вам не «каракулевая голова» никому неведомого Рапопорта. Это прикосновение к личности друга Сталина.
«Он молод, но он, как говорят о нем мужики, „спервоначалу сурьезен“. В нем имеется величавость и серьезность пролетария и т. д. и т. п.» Это вам не бред о юных бухгалтерах, мечтающих сохранить собственность своих хозяев. Отчетливо чувствуется плотность текста, объемность диалога, политический размах и некий международный оттенок при свободном обращении не с какими-то берманами, коганами, рапопортами, будасси и прочей пузатой сволочью, а с номенклатурой высшего разряда. Тут речь зашла о верхотуре, да не гулаговской — в сущности подчиненной, а о партийной верхотуре. Тут просматривается определенная степень свободы, необходимая для пропагандной достоверности, хотя и подпорченная подхалимством. Так об этих людях другие не писали и теперь не пишут. Тексты Эренбурга по простоте и естественности уступали толстовским. У Эренбурга больше газеты, больше публицистичности — эпоха вступала в период вырождения, страха и отчаяния.
В главе «Имени Сталина» явственно ощущается крепкая рука — в деталях, попытке очеловечить эпизод, найти соответствующую почтительно-дружескую интонацию. Сдобным «Хлебом» тянет, заредактированным, полуофициальным, но все-таки «Хлебом», а не ерундовой корреспондентской «прозой» или производственными очеркишками какого-нибудь Гехта.
«Часовой в малиново-васильковой фуражке мерно ходит по серому бетону шлюза…» Улавливаете разницу с прежде прочитанными впечатлениями? Не малиново-голубая фуражка, а малиново-васильковая! Нет, тут определенно аристократическая рука или сама создавала, или прочищала кем-то набросанное, стараясь ему, набросанному, придать удобоваримый лирический облик.
«На пароходе как-то по особому толпятся люди, слышатся возгласы, оживленный говор, тоже особый…» Кинематографично, сценарно, зримо. Появляются главные организаторы и эксплуататоры рабского труда. И сами рабы, которые в любую минуту могут превратиться в трупы. «Один за другим Хрусталев, Френкель и Борисов взобрались на верхнюю палубу…» Взобрались, а не поднялись. Автор чувствует их состояние. «Легко опираясь на перила, стоял Сталин. Неподалеку — Ворошилов и Киров». Сталин — в одиночестве, как Бог. Проста и свободна его поза, переданная весьма лаконично и удачно. Слово — волшебная вещь. Это легкое «опирание» на перила вызывает в сознании картину — на фоне прозрачного неба цветная фигура, схваченная моментальным взглядом, окутанная атмосферой воздушности. Здесь учтено читательское воображение. Тайная мысль о фильме просвечивает в каждой фразе.
«— Разрешите представить вам технических руководителей Беломорстроя, — обратился Ягода к Сталину.
— Очень рад, — ответил Сталин».
На сочинение подобного ответа пишущий должен получить право. Речь ведь идет о бывших врагах народа, которые должны сейчас стать его друзьями. А цензор, скрывающийся под шифром «Главлит — 31537», хорошо знает, что с ним случится, если какой-нибудь Товстуха или Мехлис узрит в целомудренной реплике политическую ошибку. Быть может, лучше присобачить обыкновенное: «Здравствуйте!», коль заявка на обыкновенность сделана выше. А то — очень рад! Это еще: как посмотрят на капитанском мостике!
«Грузно наклонившись, шаркнув ногой и оттого даже качнувшись в сторону, Хрусталев уставился на перила. Но правая рука Сталина уже лежала в его, Хрусталева, руке. Хрусталев сжал эту руку. Пятясь, сутулясь, отодвинулся он и уже не спускал глаз с улыбавшегося Сталина. Подходил Френкель, Борисов, что-то говорили — Хрусталев все смотрел и смотрел. „Три часа ночи, спать бы пора, и без того утомленный…“ — ему было приятно думать так заботливо.
Ягода делает знаки рукой. Оглянувшись, нет ли кого рядом, Хрусталев нерешительно приблизился к зампреду. Ягода шутил, посмеивался — и вдруг, быстро поклонившись и протягивая руку, сказал:
— Поздравляю вас с орденом.
— Ка-а-ким… — растерянно начал было Хрусталев и, с трудом поборов охватившее его волнение, ответил:
— Благодарю вас от всего сердца, товарищ зампред.
И опять сильнейшее, особенное и радостное волнение охватило его.
Пароход, слегка покачиваясь, шлюзовался».
Хрусталев, шаркающий перед Сталиным ногой, посмеивающийся и кланяющийся Ягода, тот же Хрусталев, озирающийся по сторонам и не верящий еще, что его удостаивают… Текст не без тонкости и кинематографической выпуклости. Это вам не простенький чемодан Рапопорта, кстати, без бритвенного прибора, который не попал в число предметов первой необходимости из-за забывчивости Катаева.
Для меня несомненно, что к художественной ткани приложилось его сиятельство вкупе с Шкловским и, возможно, склонным к сдержанной экспрессии Всеволодом Ивановым. Но главный здесь, конечно, граф: умел писать — не отнимешь. «Хлеб» будет создан через три года, но подходы уже чувствуются, и главные герои уже вместе и на месте: Сталин и Ворошилов. Приходилось снимать бобровую папаху и напяливать малиново-васильковый картуз блином.
Августовские сумерки везде приятны, а в Сибири особенно. В них привкус грусти, ускользающего лета. Сейчас закрою глаза и вижу солнечный клин на вытоптанном газоне, след от стертых протекторов и распахнутые ворота с коричневой от быстро вылинявшего сурика звездой. Позднее, прокручивая в голове эпизод моего с зеком знакомства, пришлось прийти к выводу, что он меня подстерегал, приваживая взглядом, и я не обманул надежд: появился, как черт из табакерки, в нужный момент, когда конвойный отлучился. Но я бы не появился, если бы давнее тяготение не подталкивало. К тому времени у меня накопился полезный опыт общения с людьми, которые находились не в ладах со сталинским законом. В конце войны на окраине Киева я с приятелями столкнулись при чрезвычайных обстоятельствах с настоящим власовцем Володей Огуренковым, который совершил долгий путь из Праги через Карпатские горы на Украину. И с другими выброшенными из жизни имел дело. Я болтался у ограды лагеря военнопленных, вступал с ними в торговые отношения, что-то менял, что-то брал на продажу, чем-то их снабжал, подбивал товарищей к разного рода нарушениям, за что не раз и не два сиживал в милиции за несоблюдение этих самых сталинских законов. Любопытно, что не конвойные ловили, а именно мильтоны, чаще невоевавшие. Я неплохо изучил повадки тех, кто обитал за оградой из колючей проволоки. Понимал с полуслова, правильно оценивал жесты и взгляды, умел использовать внезапно возникшие возможности и поворачивать внезапно возникшие возможности на общую пользу. Власть я ненавидел и, интуитивно ощущая каждый раз, чего она хочет и к чему стремится, постоянно противоречил ей и в серьезном, и по пустякам.
Зек стоял у открытой створки ворот, поглядывал в сторону, откуда я должен был появиться. И я появился, будто кем-то притянутый за рукав. Приближался медленно, уже предчувствуя перелом в создавшемся положении и не желая упустить благоприятный шанс. Не поспешишь — из-под земли возникнет конвойный, и тогда жди еще неделю, а то и вторую, пока вновь подвернется удобный случай, а то и вовсе не подвернется — никогда. Я не задумывался: зачем мне, абитуриенту, чреватое осложнениями знакомство. Меня всегда тянуло в запретную зону, но не к разнузданным блатарям и ворью, с их отвратительным матерным жаргоном и дурацкими вонючими песнями, а к тем — замкнутым и угрюмым, которые глубоко запрятали внутри — до душевного дна — какую-то могучую, съедающую их тайну. Блатарей и воров я выделял сразу — по ухмылкам, манерам, одежде, даже походке. Отталкивали меня и приблатненные, дворовое и уличное хулиганье. Страшно не любил я их песни и рассказы о всяческих приключениях. Советских бардов, у которых проскальзывали подобные мотивчики, позже напрочь отвергал — и самых знаменитых в том числе, особенно Высоцкого. Мой зек был по внешности замкнутым и угрюмым, а следовательно, тем, к кому я испытывал необъяснимое тяготение.