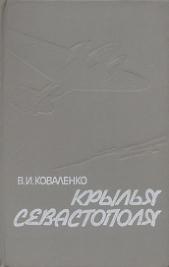Последняя гавань Белого флота. От Севастополя до Бизерты

Последняя гавань Белого флота. От Севастополя до Бизерты читать книгу онлайн
Новую книгу известного писателя-мариниста Николая Черкашина открывает документальная повесть о тяжелом и опасном переходе капитана И.И. Ризнича и его команды на подводной лодке «Святой Георгий» из Италии в Архангельск в 1917 году. Один из разделов книги — «Исходъ и поход» посвящен русской военной эмиграции, точнее русскому Исходу в 1920-м и более поздних годах. В ее основу положен путевой дневник автора, написанный во время уникального Морского похода по местам русского рассеяния, который прошел в 2010 году в Средиземном море под эгидой Фонда Всехвального Апостола Андрея
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
...Простите меня, старика, заболтался... Никак не могу перейти к главному. С чего, бишь, я начал? С памятника «Пересвету»... Из глубокого тыла мы шли на войну, и я мечтал о честном корабельном сражении вроде Ютландского боя. Но морская война для меня началась и кончилась в одну ночь. Ночь, скажу я вам, ужасную.
Мы вышли из Порт-Саида на Мальту за три дня до Рождества. Нас конвоировали англичане и французы, они же протралили нам и фарватер, так что шли мы без особой опаски.
Я сменился с вахты и мылся в кормовом офицерском душе под броневой палубой. Вдруг корабль тряхнуло, погас свет и из лейки пошел крутой кипяток... Я выскочил в коридор весь в мыле... На меня наскакивали кочегары, матросы, лезли к трапам, ведущим наверх, застревали в люках... Палуба кренилась, все круче и круче, и я понял, что выбраться из низов не успею... Страх он разный бывает — и гибельный, и спасительный. Меня как пружиной толкнуло: ворвался в каюту, чья, не знаю, отдраил иллюминатор и — спасибо, мыло на мне, смыть не успел, а то б не пролез — проскочил, сдирая кожу с плеч. Вода декабрьская, ледяная, а на мне ничего. Да в ту минуту я радовался, что налегке плыву, побыстрее да подальше от смертной воронки. Из восьмисот душ «ладья Харона» унесла с собой двести полста.
Я с двумя макушками родился — счастливый. Подобрал меня вельбот с английского эсминца. Дали глотнуть коньяку, закутали в брезент... Лежал я на носу и рыдал под брезентом, благо британцы не видели. Рыдал от обиды, от позора, от бессилия. Судите сами: столько лет готовиться к морским баталиям, проделать такой путь — с края на край земли, и вместо геройского боя такая бесславная история.
Потом выяснилось: подорвались мы на мине, выставленной германской подводной лодкой U-73. Всех спасенных разместили в палаточном лагере близ Порт-Саида, а раненых и обожженных — в госпиталях. Конечно, мы все рвались домой, в Россию, но начальство распорядилось иначе: часть «пересветовцев» отправили во Францию на новые тральщики, часть в Америку — пополнять экипажи кораблей, построенных по русским заказам. А мне выпало и вовсе чудное назначение. Дали мне под начало дюжину матросов и отправили в Грецию обслуживать катер русского военно-морского агента в Пирее, по-нынешнему — морского атташе... Весной семнадцатого я женился на гречанке — дочери пирейского таможенника. Кассиопея, Касси родила мне сына. Я рассчитывал увезти их в Севастополь, как только оттуда уберутся немцы. Но все получилось не так... В июне восемнадцатого, узнав из греческих газет о затоплении русских кораблей в Цемесской бухте, я счел большевиков предателями России, оставил семью и отправился в Севастополь бороться с немцами и большевиками.
С немцами мне бороться не пришлось, в ноябре восемнадцатого они убрались сами; с большевиками тоже не воевал. Меня определили инженер-механиком на подводную лодку «Тюлень». В войну с турками слава об этой субмарине гремела по всему флоту. Она приводила в Севастополь турецкие шхуны одну за другой, топила транспорты, крейсировала у Босфора...
На «Тюлене» я приплыл в Бизерту. Здесь я, уже лейтенант, сошелся очень близко с кавторангом Владимиром Петровичем Шмидтом, братом того самого Шмидта, что был расстрелян на острове Березань. На многие вещи мы смотрели одними глазами. Правда, в Бизерте он снял погоны, принял духовный сан и стал священником Говорят, до недавних лет Шмидт служил настоятелем в небольшом православном храме в Нью-Йорке близ здания ООН.
Да... Здесь, в Бизерте, как на большом перекрестке, пути расходились у многих: кто уехал в Марокко, кто в Сербию, кто во Францию. А по Севастополю тосковали! И как тосковали.
Вы шли сюда по бульвару Хабиба? Нет, вы шли по Примбулю — Приморскому бульвару. Гавань Вье-Пор мы переименовали в Артбухту. А городской холм Джебель-Ашшль назвали между собой Малаховым курганом.
Еникеев на минуту замолк, задумался, глядя сквозь нас, потом снова повел свой грустный рассказ:
— Конечно, я мог бы вернуться на родину, как вернулся генерал Слащов со своими казаками. На мне не было крови... Заурядный корабельный механик. Кто стал бы меня преследовать? Но жизнь моя уже установилась здесь. Приехала из Пирея Касси с Пересветом, вскоре родилась дочь, Ксения. По-гречески — «странница».
Я преподавал теоретическую механику в гардемаринских ротах Морского корпуса. Все было хорошо, пока корпус не распустили. Вот тут начались черные дни. Безработица. Вы себе и представить такого не можете — безработица двадцать девятого года... У меня был прекрасный спиннинг — подарок одного английскою лейтенанта в Порт-Саиде. Вот этим спиннингом целый год кормился! Что выловлю — все на стол. Случалось, кое-что Касси и на рыбный рынок относила. Вскоре мне повезло — взяли сторожем в Пиротехническую гавань. Потом устроился рабочим в аккумуляторную мастерскую. И, наконец, в тридцать третьем выбился в начальники электротехнической службы торгового порта.
Как только началась вторая война с бошами, я вступил добровольцем во французский флот. Однако плавать мне не пришлось. В чине капитан-лейтенанта меня назначили старшим механиком здешней базы по ремонту подводных лодок. Через год я отравился хлором в аккумуляторной яме «Нотилюса», и меня списали вчистую. Лицо, как видите, бело до сих пор. Хлор — прекрасный отбеливатель.
Когда я узнал о гибели сына Пересвета — волосы тоже стали белыми. Так что перед вами натуральный белый гвардеец. Н-да... Лейтенант французского флота Пересвет Еникееев погиб девятнадцатого декабря сорокового года на подводной лодке «Сфакс» где-то под Касабланкой. Координаты места гибели неизвестны. Потопили их боши. Я узнал номер той субмарины, U-37, — Еникеев пригубил кофе. — Немцы пришли в Бизерту в ноябре сорок второго года. В порту я не появлялся, хотя меня могли обвинить в саботаже и расстрелять. И когда в марте сорок третьего ко мне вломились ночью жандармы, я так и понял — повезут на расстрел. Простился с Касси и Ксюшей... Привезли меня в порт, где стояла немецкая подводная лодка. Теперь мне известен ее номер — U-602, как известно и то, что лодку сына потопила U-37. Но тогда я решил — вот она, убийца моего Пересвета. Новенькая, спущенная со стапелей чуть больше года, с броневой палубой из стали «Вотан», она несла четыре торпедных аппарата в носу и один в корме. Зубастая была акула.
Командир субмарины на скверном французском сообщил мне, что в электродвигатели попала морская вода и требуется срочная переборка механизмов. И если я не справлюсь с работой за сутки, то он лично расстреляет меня прямо на причале.
Делать нечего. Взялся за работу. Помогали мне немецкие электрики и лодочный же механик, рыжий обер-лейтенант, переученный из танкиста на подводника. Дело свое он знал из рук вон плохо, за что и поплатился... Устроил я им межвитковое замыкание якорей обоих электромоторов. Причем сделал это так, чтобы замыкание произошло лишь при полной нагрузке. Полный же подводный ход, как вы и сами знаете, лодка развивает лишь в крайне опасных ситуациях.
23 апреля сорок третьего года U-602 погибла «при неизвестных обстоятельствах» у берегов Алжира. Уверен, у них сгорели под водой оба электромотора. На лодке было сорок четыре человека команды и пес по кличке Бубби. Впрочем, он откликался и на Бобика. Вот этого пса мне жаль до сих пор. U-602 — это мой личный взнос на алтарь общей победы.
Мы сидели перед ним, трое невольных судей чужой жизни.
— Теперь, когда вы знаете мою историю, — вздохнул Еникеев, — я хочу попросить вас об одном одолжении.
Он дотянулся до картоньера, выдвинул ящичек и достал из него старый морской кортик. Ласково огладил эфес и ножны, тихо звякнули бронзовые кольца и пряжки с львиными мордами.
— Когда вернетесь в Севастополь, — Еникеев не сводил глаз с булатного клинка, — бросьте мой кортик в море возле памятника затопленным кораблям.
Он решительно протянул Разбашу кортик — рукояткой вперед.
— Беру с вас слово офицера.
Еникеев еще раз заглянул в ящичек.
— А это вам всем от меня на память. Берите! Здесь это все равно пропадет... В лучшем случае попадет в лавку старьевщика.