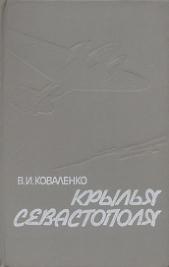Последняя гавань Белого флота. От Севастополя до Бизерты

Последняя гавань Белого флота. От Севастополя до Бизерты читать книгу онлайн
Новую книгу известного писателя-мариниста Николая Черкашина открывает документальная повесть о тяжелом и опасном переходе капитана И.И. Ризнича и его команды на подводной лодке «Святой Георгий» из Италии в Архангельск в 1917 году. Один из разделов книги — «Исходъ и поход» посвящен русской военной эмиграции, точнее русскому Исходу в 1920-м и более поздних годах. В ее основу положен путевой дневник автора, написанный во время уникального Морского похода по местам русского рассеяния, который прошел в 2010 году в Средиземном море под эгидой Фонда Всехвального Апостола Андрея
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Приморский бульвар есть, наверное, в каждом морском городе. Но Примбуль — это только в Севастополе. Так же, как Артбухта, как Малахов курган... И уж никак я не думал, что доведется пройтись по Примбулю и увидеть Малахов курган в далекой африканской Бизерте.
В сентябре 1976 года плавбаза «Федор Видяев» в сопровождении сторожевика и подводной лодки, на которой я служил, входила на рейд Бизерты с визитом дружбы. В знак уважения к советскому флагу нас поставили не в аванпорте, а в военной гавани Сиди-Абдаллах — в той самой, как выяснилось, что стала последним причалом для черноморских кораблей, уведенных Врангелем из Севастополя. Здесь же, кстати, укрывались и испанская эскадра, угнанная мятежниками из республиканской Картахены в 1939 году, и остатки французского флота после падения Парижа в сороковом...
Бизерта, Бизерта, пристанище беглых флотов...
Я оглядываюсь по сторонам — не увижу ли где призатопленный корпус русского эсминца, не мелькнет ли где ржавая мачта корабля-земляка... Но гладь бизертского озера была пустынна.
Утром объявили сход на берег. Видавший виды плавбазовский баркас, тарахтя мотором, шел вдоль озерного берега, держа курс на бизертские минареты.
Желтая всхолмленная земля с клочковатой зеленью. Под редкими пальмами паслись верблюды. Так странно было их видеть поверх белых матросских бескозырок. А впереди наплывала Бизерта — кроны пальм и купола мечетей, белые купола и зеленые кроны. Африканское солнце жгло нещадно, и купола, казалось, вспухали, как волдыри, на обожженных плоских крышах белого города.
Мне не терпелось попасть в медину — старую арабскую часть города, и я всячески торопил своих спутников — командира плавбазы сорокалетнего крепыша с флибустьерскими бакенбардами Разбаша, на кремовой рубашке которого блестело золото кавторанговских погон, и старпома с нашей подводной лодки — капитан-лейтенанта Симбирцева. Я не зря отрывал их от пивных столиков и сувенирных прилавков. В Медине мы с головой окунулись в «добрый старый Восток». Все было так, как грезилось когда-то в школярских мечтах, как виделось лишь на телеэкране да на снимках путешествующих счастливцев.
Велик базар... Плывут малиновые фески, чалмы, бурнусы... Велик торговый карнавал! Пестрые попоны мулов, яркая эмаль мопедов, сияющая медь кувшинов на смуглых плечах водоносов, пунцовые связки перца, разноцветная рябь фиников, миндаля, маслин, бобов...
Что ни тротуар — прилавок, что ни стена — витрина.
На приступках, в нишах, подворотнях, подвальчиках кипела своя жизнь: под ногами у прохожих старик-бербер невозмутимо раздувал угли жаровни с медными кофейниками. Его сосед, примостившийся рядом, — седобородый, темноликий, по виду не то Омар Хайям, не то старик Хсттабыч, равнодушно пластал немецким кортиком припудренный рахат-лукум. Разбаш тут же приценился к кортику, но старец не удостоил его ответом. Он продавал сладости, а не оружие.
Звуки Медины... Уханье барабана и нытье флейты бродячего оркестра тонули в эстрадных ревах японских транзисторов, гортанная перебранка торговцев, сдобренная звоном монет и караванных колокольчиков, мешалась с воплями ослов...
Запахи Медины... Из каждой лавки, кухни или мастерской в улицу вливаются свои запахи, и слабый ветер гонит их вниз — к Старому порту, где все они сливаются в густое облако из ароматов ванили и бензина, смолы и кож, лимонов и табака, парижских духов и верблюжьего навоза.
У ворот старой испанской крепости к нам подбежала девушка, вида европейского, но с сильным туземным загаром. Безошибочно определив в Разбаше старшего, она принялась его о чем-то упрашивать, обращаясь за поддержкой то ко мне, то к Симбирцеву. Из потока французских слов, обрушенных на нас, мы поняли, что она внучка кого-то из здешних русских, что ее дед — бывший моряк, тяжело болен и очень хотел бы поговорить с соотечественниками; дом рядом — в двух шагах от крепости.
Мы переглянулись.
— Может, провокация? — предположил Симбирцев.
— Напужал ежа! — воинственно распушил бакенбарды командир плавбазы. — Нас трое, и мы в тельняшках... Посмотрим на осколок империи.
Мы пошли вслед за девушкой, которую, как быстро выяснил Разбаш, звали Таня и которую всю недолгую дорогу он корил за то, что не удосужилась выучить родной язык. Девушка привела нас к старинному туземному дому, такому же кубическому и белому, как и теснившие его соседи-крепыши с чугунными балкончиками и фонарями, вроде тех, что горели на парижских улицах во времена Золя и Мопассана.
Мы вошли в белые низкие комнаты уверенно и чуточку бесцеремонно, как входят в дом, зная, что своим посещением делают хозяину честь и одолжение.
«Осколок империи» лежал на тахте под траченным молью пледом Голова, прикрытая мертвыми серебристыми волосами, повернулась с подушки к нам, и старик отчаянно задвигал локтями, пытаясь сесть. Подобрал плед, оглядел нас недоверчиво, растерянно и радостно:
— Вот уж не ожидал!. Рассаживайтесь! Простите, не знаю, как вас титуловать...
Мы назвались. Представился и хозяин:
— Бывший лейтенант российского императорского флота Еникеев Сергей Николаевич.
Это молодое блестящее звание — «лейтенант» — никак не вязалось с дряхлым старцем в пижаме. Правда, в распахе домашней куртки виднелась тельняшка с широкими нерусскими полосами. В вырез ее сбегала с шеи цепочка нательного крестика.
На вид Еникееву было далеко за восемьдесят, старила его неестественная белизна лица, столь заметная оттого, что шея и руки бывшего лейтенанта были покрыты густым туземным загаром.
Он рассматривал наши лица, наши погоны, фуражки, устроенные на коленях, с тем же ошеломлением, с каким бы мы разглядывали инопланетян, явись они вдруг перед нами. Он очень боялся — и это было видно,—что мы посидим-посидим, встанем и уйдем. Он не знал, как нас удержать, и смятенно предлагал чай, фанту, буху, кофе... Мы выбрали кофе.
— Таня! — почти закричал он. — Труа кафе тюрк!.. Извините, внучка не говорит по-русски, живет не со мной... Вы из Севастополя?
— Да, — ответил за всех Разбаш, который и в самом деле жил в Севастополе.
— Я ведь тоже коренной севастополец! — обрадовался Еникеев. — Родился на Корабельной стороне, в Аполлоновой балке. Отец снимал там домик у отставного боцмана, а потом мы перебрались в центр... Может быть, знаете, в конце Большой Морской стоял знаменитый «дом Гущина»? Там в Крымскую кампанию был госпиталь для безнадежно раненных... Вот в этом печальном доме я прожил до самой «врангелиады».
Таня принесла кофе и блюдо с финиками. Пока разбирали чашечки, я огляделся. Убранство комнаты выдавало достаток весьма средний: старинное, некогда дорогое кресло-«кабриолет», расшатанный кофейный столик, облезлый шкафчик-картоньер для рукописей и бумаг... Из морских вещей здесь были только бронзовые корабельные часы фирмы «Мозер», висевшие на беленой стене между иконкой Николая Чудотворца и журнальным фото Юрия Гагарина в белой тужурке, украшенной шейными лентами экзотических орденов. Поверх картоньера лежала аккуратная подшивка газеты «Голос Родины», издававшейся в Москве для соотечественников за рубежом.
— Я подписался на эту газету, — перехватил мой взгляд Еникеев, — когда узнал, что ваше правительство поставило в Порт-Саиде памятник броненосцу «Пересвет». Слыхали о таком?
— Тот, что взорвался в Средиземном море?
— Точно так. В шестнадцатом году на выходе из Суэцкого канала... Я был младшим трюмным механиком на «Пересвете» и прошел на нем — извините за каламбур — полсвета: от Владивостока до Суэца. Это был старый броненосец, хлебнувший лиха еще в Порт-Артуре. Японцы его потопили в 1904-м, подняли, нарекли «Сагами», а спустя лет десять продали России. В кают-компании его называли «ладьей Харона»: мол, «ладья» эта уже переправила на тот свет несколько сотен людей, теперь вторым рейсом доставит туда еще семьсот семьдесят... Но все равно я любил этот бронтозавр, ведь это был мой первый боевой корабль, на нем я принял морское крещение, и — не улыбайтесь — сына-первенца я назвал Пересветом..