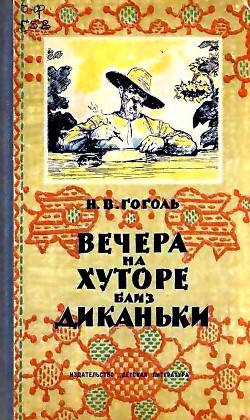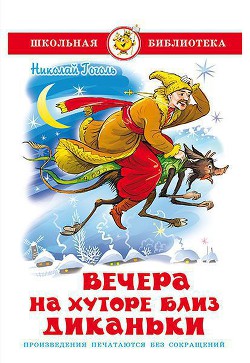Русская тема. О нашей жизни и литературе

Русская тема. О нашей жизни и литературе читать книгу онлайн
Вячеслав Пьецух — писатель неторопливый: он никогда не отправится в погоню за сверхпопулярностью, предпочитает жанр повести, рассказа, эссе. У нашего современника свои вопросы к русским классикам. Можно подивиться новому прочтению Гоголя. Тут много парадоксального. А все парадоксы автор отыскал в привычках, привязанностях, эпатажных поступках великого пересмешника. Весь цикл «Биографии» может шокировать любителя хрестоматийного чтения.
«Московский комсомолец», 8 апреля 2002г.Книга известного писателя Вячеслава Пьецуха впервые собрала воедино создававшиеся им на протяжении многих лет очень личностные и зачастую эпатажные эссе о писателях-классиках: от Пушкина до Шукшина. Литературная биография — как ключик к постижению писательских творений и судеб — позволяет автору обозначить неожиданные параллели между художественными произведениями и бесконечно богатой русской реальностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но вот до того хворал Достоевский бедовой нашей Россией, что из провала петровской европеизации всей страны, из переимчивости и способности всё понять, всё простить, наконец, просто из того, что русская мысль не в состоянии ужиться с русской действительностью, вывел особую, неслыханно высокую миссию нашей родины: синтезировать, примирить в себе великие гуманистические идеи, тем самым явив новое качество общества и, главное, нового человека.
Как сетовал в таких случаях Антон Павлович Чехов: песня старая, хотя далеко еще не допетая. Иначе говоря, покуда наша мысль пребывает в контрах с нашей несчастной жизнью (а это, судя по всему, их вечное состояние, не потому, что всегда будет отвратительна наша жизнь, но потому, что русскую мысль она будет вечно не удовлетворять), мы не отстанем от избранности России. Может быть, в том как раз и заключается наша избранность, чтобы, ковыряя пальцем в носу, томиться от всемирных несовершенств.
И в диковинной этой миссии на самом деле нет ничего обидного, способного обострить национальный комплекс неполноценности. Потому что каждому своё: кто-то за всех компьютеры строит, кто-то моды выдумывает, кто-то высаживается на Луну, а кто-то томится от всемирных несовершенств. Больше того, если землянам и есть за что нас по-настоящему уважать, так именно за то, что мы в лучшем своём проявлении — больная совесть Земли, добровольные ответчики за первородный грех, уязвленная душа, настроенная на всемирность.
Но ведь то же самое говорил Достоевский, исходя из сугубого патриотизма и невольно приходя к космополитизму, или, лучше сказать, всечеловечности: способность к пониманию чуждого народа, его души, его радости и печалей свойственна всему русскому народу. Печали и радости, волнующие жизнь европейского человека, его тоска, его страданье для нас, для каждого из нас, русских людей, едва ли не дороже наших собственных печалей — вот что говорил в своей юбилейной пушкинской речи писатель, который неустанно издевался над западным образом жизни и позволял себе откровенные выпады против многих народов мира.
Вот уж, действительно, диалектика в образе человеческом, единство и борьба противоположностей, дающие на редкость гармонический результат. Ибо отечественность Достоевского была интеллигентна — за что его и недолюбливали славянофилы, а интеллигентность отличалась такой глубокой народностью, что недаром эта благодать считается чисто русской прерогативой.
Или другой пример: сочинения Достоевского шли вразрез с демократической традицией тогдашней литературы (за что его недолюбливала революционно настроенная молодежь, с подачи тургеневского Базарова, чисто по-большевистски, ставившая идею смазных сапог выше идеи Бога). Но в чём же, собственно, была недемократичность его произведений? А в том, что Федор Михайлович понял столетия так за два до того, как это станет доступно всем: человеческое счастье гораздо сложнее, чем полагают господа социалисты. И вообще благословенна эволюция, органическое развитие общественных отношений, обеспеченное никак не сменой форм собственности на средства производства, но ужасающе медленным становлением человека, который в рамках любой государственности способен образовать сумасшедший дом. А революции губительны (хотя с ними ничего и не поделаешь, как, скажем, с землетрясениями), поскольку они только меняют вещи местами, не изменяя качества их природы, и потом требуются многие десятилетия, чтобы всякая вещь заняла приличествующее ей место, чтобы природа взяла своё.
Отсюда литература, работающая на рост человечного в человеке, несоизмеримо благоугодней литературы, так или иначе призывающей к топору. Ибо призывающий к топору от топора и погибнет, что в совершенстве доказал 1937-й сатанинский год. Отсюда и вывод почти святотатственный, с которым вряд ли согласится даже вяло выраженный прогрессист: всякая политическая борьба против существующего порядка вещей, от терроризма до робкого диссидентства, есть в лучшем случае продукт детского недомыслия, а единственно действенный способ изжить социальное неустройство — это жить по совести и трудиться на совесть, тем самым нагнетая вокруг себя эволюционную ситуацию.
Но тогда кто же у нас, спрашивается, выходит истинный демократ, то есть радетель о благе народном — Чернышевский с его Рахметовым, Тургенев с его Базаровым или Достоевский с его «Бесами», задолго предвосхитивший бесов из окружения Иосифа Джугашвили?..
И опять у нас вроде бы непримиримые противоречия дают более или менее гармоничный результат. Такой уж был человек Федор Михайлович Достоевский; он, может быть, потому сделался монархистом, что Пушкин был анархист, православным христианином, — потому что Белинский был атеист, а Л. Толстой сектант, русофилом — потому что Герцен был не столько «русский дворянин», сколько «гражданин мира». Но именно благодаря этому нервному духу противоречия Достоевский и завершил образ русского интеллигента, наделив его многими драгоценными качествами из личного арсенала, в частности, оптимизмом безысходности, активной бездеятельностью, человеконенавистническим альтруизмом и еще таким грациозным качеством: русский интеллигент действительно затрудняется жить, если, например, эфиопы не знают грамоты.
Только что делать с отравлением всем этим богатством, с разностью «Достоевский как великий певец духа человеческого минус Достоевский как человек»?
Разве что обопрёмся-ка на разнузданное воображение и нарисуем такую сцену: Санкт-Петербург, Васильевский остров, квартира Корвин-Круковских, званый вечер, чопорные столичные немцы, дамы в хрустящих платьях, цвета которых не разобрать из-за свечного, квёлого освещения, какой-то гвардейский поручик, трогающий себя за левую эполету, а Федор Михайлович сидит, сгорбившись, в уголке, сердится и тоскует. Я подсаживаюсь к нему и, млея от почтения, говорю:
— Публика-то — такая, прости господи, чепуха.
— Совершенно с вами согласен, — отвечает Федор Михайлович и поднимает на меня спрашивающие глаза. – А вы-то, сударь, здесь по какому поводу?
— Из-за вас, дорогой Федор Михайлович, исключительно из-за вас. Вообразите, позарез требуется получить ответ вот на какой вопрос: гений и злодейство — две вещи несовместные, или как?
Достоевский настораживается и говорит:
— Не то что ответа, а и самого-то вопроса такого нет. Потому что
ведь наш брат писатель хоть и сакральный сосуд, да тоже из простой глины. Вы, наверное, согласитесь, что я порядочный романист, а между тем, знаете, что я в молодости учудил?..
Окончание этой речи мне неохота передавать; одно только скажу: у-у, до чего широк человек, уж на что я Пьецух Вячеслав Алексеевич, а и я бы сузил.
Уважаемый Антон Павлович!