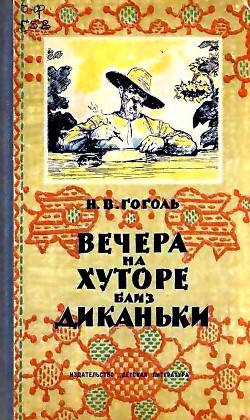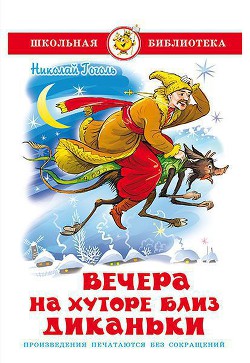Русская тема. О нашей жизни и литературе

Русская тема. О нашей жизни и литературе читать книгу онлайн
Вячеслав Пьецух — писатель неторопливый: он никогда не отправится в погоню за сверхпопулярностью, предпочитает жанр повести, рассказа, эссе. У нашего современника свои вопросы к русским классикам. Можно подивиться новому прочтению Гоголя. Тут много парадоксального. А все парадоксы автор отыскал в привычках, привязанностях, эпатажных поступках великого пересмешника. Весь цикл «Биографии» может шокировать любителя хрестоматийного чтения.
«Московский комсомолец», 8 апреля 2002г.Книга известного писателя Вячеслава Пьецуха впервые собрала воедино создававшиеся им на протяжении многих лет очень личностные и зачастую эпатажные эссе о писателях-классиках: от Пушкина до Шукшина. Литературная биография — как ключик к постижению писательских творений и судеб — позволяет автору обозначить неожиданные параллели между художественными произведениями и бесконечно богатой русской реальностью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Впрочем, нужно отдать ему справедливость: после возвращения из второй, новгородской ссылки он целых пять лет пытался прижиться на родине, поселился в Москве на Арбате, начал печататься в толстых литературных журналах, похоронил отца, пал со своей горничной, вышел в отставку с чином надворного советника, дававшим потомственное дворянство, свел близкое знакомство с декабристом Михаилом Орловым, историком Грановским, огорченным острословом Чаадаевым, Белинским, славянофилами, западниками, вступил в наследство и сделался богачом.
Но что-то ему на родине не жилось… Может быть, он слишком остро переживал глупость и фальшь режима. Может быть, окончательно утвердился в своем призвании революционера-пропагандиста и публициста, а таковым в Российской империи развернуться не давали. Может быть, ему стало ясно, что большого писателя, вроде Гоголя, из него не выйдет, что читатель его — другой.
И опять думы… Едва ли не все общечеловеческие трагедии происходят оттого, что бывают люди, измученные неотчетливыми талантами, томимые предчувствием роли необыкновенной, но неспособные определиться на каком-либо положительном поприще, будь то хоть симбиоз агрономии и литературы, который открыл Александр Николаевич Энгельгард.
Ведь мог же Герцен удовольствоваться положением порядочного литератора и вождя молодежи вроде Михайловского, тем более что русский писатель его эпохи сравнительно беды не знал, то есть сравнительно с писателем наших дней. Труд его оплачивался щедро, да еще крепостные крестьяне на него работали, которым он сердечно сочувствовал на письме, никто не понуждал его сочинять оптимистические концовки, как это практиковалось при большевиках, жизнь не опускала его до светского хроникера, как сплошь и рядом случается в нашей слишком уж, донельзя демократической стране, в общественном мнении он стоял наравне с царем, читатель был квалифицированный и на какие-нибудь «Петербургские тайны» налегали разве что купеческие дочки да приказчики шляпных магазинов, то есть умственно недостаточный элемент. Но нет; Александру Ивановичу требовалось вступить в единоборство с домом Романовых и в конце концов подвести их под решительную черту.
Итак, в России Герцену не жилось. На Западе ему потом тоже не жилось и, верно, в строку к тому, что он был человек именно измученный и томимый, несчастья личного порядка как прицепились к нему в родном краю, так, на манер хронического насморка, и таскались за ним из страны в страну. Он схоронил семерых детей, мать с сыном Николаем, непоправимо глухонемым, утонули в результате кораблекрушения в Средиземном море, жена изменила ему с немецким поэтом Гервегом, сын Александр совершенно ошвейцарился, но, правда, дочь Ольга дожила до наших дней и скончалась в Версале в 1953 году, — как, однако, от Герцена до нас, по крайней мере, недалеко.
Скорее всего, сия горькая чаша не миновала бы Александра Ивановича и останься он навсегда в России, так что с этой стороны переселяться на чужбину и бесконечно мыкаться по Европе у него резонов не было никаких. Иное дело литература; нужно долго тереться среди орловских крестьян, дышать одним воздухом с Акакием Акакиевичем Башмачкиным, чтобы вышли «Записки охотника» и «Шинель». В сущности, наша изящная словесность потому так и богата, что бесконечно богата русская жизнь, которая одновременно умна и жестока, глупа и романтична, дика и духовна, но, главное, насквозь литературна, точно она строится по законам словесного волшебства.
Александр Иванович это знал и писал, что в русской жизни есть много фантастического и смешного, но ничего пошлого, что над ней отнюдь не довлеет то самодовольно-ограниченное начало, на котором зиждется жизнь Европы, не знающая парения и страстей по линии отвлеченной мысли, нацеленная на «вежливую антропофагию» и почти физиологический интерес. Тем не менее он решительно переселился в Париж, всемирный центр мещанства, которое последовательно презирал. Наверное, его уже не интересовала литература, органически вытекающая из общения с орловскими мужиками, наверное, он решил сосредоточиться на другом читателе, оппозиционно настроенном молодом человеке, способном на отчаянно-благородные поступки и ищущем пострадать.
В России XIX столетия таких действительно было много, и даже это была центральная фигура тогдашнего общества, да вот какое дело: скоро оказалось, что и на Западе жить нельзя.
Русскому человеку из культурных и в России существовать невыносимо, и вне России существовать невыносимо, — словом, кругом беда. С одной стороны, дома его донимает вечная гегемония дурака и азиатские ухватки родного народа, а также «Петербург, снега, подлецы, департамент…» [11] — с другой стороны, он почти физически не способен существовать, будучи окруженным глубоко немецкими физиономиями, подростковыми мнениями, убогими эстетическими запросами и, может быть, в первую очередь вне стихии русского языка. Поэтому большие наши писатели избирали, как правило, средний путь — самоизоляцию от российской действительности, которую до известной степени могли обеспечить и православный мистицизм, и Ясная Поляна, и нескончаемые труды.
Герцен предпочел эмиграцию и после горько о том жалел. Незадолго до смерти он заметил в частном разговоре: «Если бы мне теперь предложили на выбор мою теперешнюю скитальческую жизнь, или русскую каторгу, я бы без колебаний выбрал последнюю…»
Как же так? То есть как же это так получается, что мудрый и талантливый человек, жизнь проживший в перепалке с правительством своей родины, «русский вельможа и гражданин мира», как он сам себя рекомендовал, выбрал как раз Акатуйские рудники? И до какой же степени нужно любить свою родину, чтобы предпочесть эти самые Акатуйские рудники? И почему именно у русских так развито это чувство сродства с отчизной, которое Достоевский называл «химическим единством»? И отчего при этом мы страдаем комплексом неполноценности по отношению к европейцу, самодостаточному настолько, что он ни с кем себя не равняет, ни в чью сторону не кивает, а мы все твердим: «Смотрите, немцы: мы лучше вас». [12]
Отчасти мы так нервно любим свою родину потому, что ни в какой земле не можем найти созвучия своему физическому состоянию и настрою своей души. Страна наша бедна — и мы бедны, природа неказиста — и мы с виду не парижане, климат суров — и мы озлоблены, точно насмерть надоели друг другу, жизнь неадекватна законам физики — и мы метафизичны до такой степени, что наша литература недоступна европейцу и Пушкина не чувствует даже славянский мир. Отчасти же наша любовь к России объясняется тем, что мы-то ее любим, а она нас нет, а это любовь самая острая, самая злая, не проходящая никогда. Потому нам желательно жить в России, как рыбе желательно жить в воде.
Впрочем, русак из культурных ощущает себя на родине феноменом, если не чужеродным, то как-то не ко двору. Он чувствует и мыслит как рафинированный европеец, а между тем его душит наша туземная обыкновенность в виде, скажем, непроезжих дорог или органов надзора, которые контролируют каждый чих. Отсюда клинический разлад с отечеством, комплекс неполноценности, любовь, похожая на ненависть, или ненависть, похожая на любовь. Отсюда же и религиозно-политические фантазии, вроде идеи Третьего Рима, которую развил Филофей, монах псковского Елизарова монастыря, и религиозно-социальные фантазии, вроде славянофильства, которое неистово проповедовали Аксаков и Хомяков. Современник их Герцен, в свою очередь, выдумал крестьянский социализм.
Суть его состояла в следующем: поскольку землей у нас искони владела сельская община, частной собственности на угодья не существовало, коренные вопросы крестьянской жизни всегда решались на мировых сходах, то, стало быть, русский землепашец по своей природе — социалист; поэтому будущее за славянством, за Россией, где, минуя капиталистический путь развития, на котором свихнулась Западная Европа, со временем сложится общество полной социальной справедливости и можно будет кого угодно критиковать.