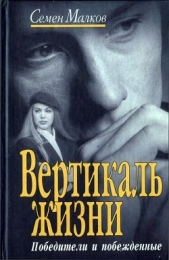Советская литература: Побежденные победители

Советская литература: Побежденные победители читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Мандельштам рассердился, губы у него затряслись.
— Он не только тух, он глуп, — крикнул он Надежде Яковлевне.
Я эту историю, — продолжает Липкин, — рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону. „В ваших словах был резон. Он не хотел исправить из упрямства“.
Но так ли, думаю я теперь? Поэтика Мандельштама зиждилась на тогда мне неизвестных, да и сейчас не всегда мне ясных основаниях».
Между прочим, два поэта, тот же Липкин и Арсений Тарковский, в разной степени связанные с Мандельштамом (первый — биографически, второй — зависимостью поэтической манеры), словно бы расщепили то сложное единство, которое представляет его поэзия. Липкин ближе к беспощадности Ламарка; например, в стихотворении Зола (1967), где так называемый «лирический герой» совершает путь, обратный тому, что совершен в мандельштамовском стихотворении: от «лагерной пыли» к жизни и солнцу. Сохраняя при этом самоощущение смертника: «Я был остывшею золой, / Без мысли, образа и речи, / Но вышел я на путь земной / Из чрева матери — из печи. / Еще и жизни не поняв / И прежней смерти не оплакав, / Я шел среди баварских трав / И обезлюдевших бараков. / Неспешно в сумерках текли / „Фольксвагены“ и „мерседесы“, / А я шептал: „Меня сожгли. / Как мне добраться до Одессы?“».
А Тарковский, долго выбиравшийся из объятий цепкого мандельштамовского влияния (чем при единственной встрече с кумиром привел того, не терпевшего своих эпигонов, в раздражение), если с чем и сопоставим в своих лучших стихотворениях, так, может быть, со Щеглом (1936) из Воронежских стихов: «Мой щегол, я голову закину — / Поглядим на мир вдвоем: / Зимний день, колючий, как мякина, / Так ли жестк в зрачке твоем? / Хвостик лодкой, перья черно-желты, / Ниже клюва в краску влит, / Сознаешь ли — до чего щегол ты, / До чего ты щегловит?».
Поразительно. В ссылке, за два года до гибели, ясно предвидимой, Мандельштам ищет в «птичке Божией» собеседника, который мог бы сказать о мире нечто лучшее, чем сейчас может он сам: «Так ли жестк?..». Он еще надеется объяснить колючесть и жесткость мира ущербом собственного зрения, — так в работе Разговор о Данте (1933) он писал, что забота великого итальянца была в том, чтобы «снять катаракту с жесткого зрения».
И — вот Тарковский, нашедший свою манеру и оставшийся душевно родственным автору Щегла; стихотворение Верблюд из сборника Вестник (1969): «На длинных нерусских ногах / Стоит, улыбаясь некстати, / А шерсть у него на боках / Как вата в столетнем халате. / …Горбатую царскую плоть, / Престол нищеты и терпенья, / Нещедрый пустынник-Господь / Слепил из отходов творенья. / …Привыкла верблюжья душа / К пустыне, тюкам и побоям. / А все-таки жизнь хорошо, / И мы в ней чего-нибудь стоим».
«Точильным камнем русской поэзии» щедро назвал Мандельштам Маяковского; для Тарковского и Липкина такой камень, обтачивающий их индивидуальности, — он сам. И любопытно, как несхоже предстает его непосредственный облик, по-разному мифологизированный, у обоих поэтов.
У Тарковского, имевшего простительную слабость фантазировать насчет своих — небывших — встреч с Мандельштамом, речь как раз об одной из таких, из вымышленных: «Эту книгу мне когда-то / В коридоре Госиздата / Подарил один поэт; / Книга порвана, измята, / И в живых поэта нет. /…Гнутым словом забавлялся, / Птичьим клювом улыбался, / Встречных с лету брал в зажим, / Одиночества боялся / И стихи читал чужим». Не в укор этим сильным стихам, образ как раз таков, что вполне может возникнуть из чужих рассказов. Он — квинтэссенция тривиального представления о Мандельштаме, и если добавим, что образ примитивизирован, то опять же без укоризны. Тут не «примитивность», а «примитив», вроде картин Пиросмани или Таможенника Руссо: не неповторимая индивидуальность, а то, чему ты и сам способен уподобиться. «Так и надо жить поэту. / Я и сам сную по свету, / Одиночества боюсь…».
Впрочем, ведь и трезвейший Липкин, оставивший о Мандельштаме обстоятельные воспоминания, предпочел миф, воспроизводящий один из слухов о его лагерной судьбе, — о нем, читавшем (прямо сцена из Шиллера! Из Гюго!) блатным сонеты Петрарки по-итальянски: «За последнюю ложку баланды, / За окурок от чьих-то щедрот / Представителям каторжной банды / Политический что-то поет. / Он поет, этот новый Овидий, / Гениальный болтун-чародей / О бессмысленном апартеиде / В резервацьи воров и блядей» (Молдавский язык (1962)). Не чересчур ли красиво по сравнению с тем, что вспомнил солагерник Мандельштама? «…Я заметил, что бьют какого-то щуплого маленького человека… Спрашиваю: „За что бьют?“. В ответ: „Он тяпнул пайку“. Я спросил, зачем он украл хлеб. Он ответил, что точно знает, что его хотят отравить… Кто-то сказал: „Да это сумасшедший Мандельштам!“». Но, как видно, не зря в своей прозе, в повести Декада (1983), Липкин скажет: «Врут учебники, врут газеты, только миф — правда». Поэт хочет воспринимать поэта лишь в области мифа, на уровне мифа, синоним которого — искусство.
Итак, «не всегда мне ясные», — сказал тот же Липкин об опорах поэтики Мандельштама, тут же, однако, невольно предложив ключик к «шифру». Вспомнив и прокомментировав строки из Камня: «У Чарльза Диккенса спросите, / Что было в Лондоне тогда: / Контора Домби в старом Сити / И Темзы желтая вода». «…Дальнейшие строки этого раннего стихотворения, — таков комментарий, — вовсе не пересказывают какой-то определенный роман Диккенса… но все стихотворение в целом рисует скорее наше восприятие диккенсовской Англии, нежели саму диккенсовскую Англию…».
Так и есть. «Скорее… восприятие», — но важно, чье именно. Покуда — «наше». Не сугубо индивидуальное, а соборное, что вообще характерно для Камня, книги, конечно, уже отмеченной мандельштамовским своеобразием, но населенной образами русской истории, архитектуры, литературы, в той или иной степени зримыми для всех, внятными всем. Но далее Мандельштам, уходя от своей — нет, повторим: «нашей» — смысловой ясности, заберется в дебри и кущи, из которых не всегда сыщешь выход. Что не означает, будто его нет.
Возьмем Ласточку, стихотворение из Tristia, содержащее самую, пожалуй, невнятную из процитированных нами строк. «Я слово позабыл, что я хотел сказать. / Слепая ласточка в чертог теней вернется / На крыльях срезанных, с прозрачными играть. / В беспамятстве ночная песнь поется». И — то самое: «О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, / И выпуклую радость узнаванья. / Я так боюсь рыданья Аонид, / Тумана, звона и зиянья». «Аониды» ничуть не загадочны; это — музы. Но что означают три последних слова в стихах, полных ужаса неуслышанности, непонятости, невоплощенности, где и Стикс, река в царстве мертвых, и загробная тишина («Не слышно птиц. Бессмертник не цветет»)?
«Туман» (начинаем догадываться) — то, что застилает взор? Возможно. Или туман забвенья, предсмертный туман — в любом случае то, чьи эмоциональные границы достаточно определены. «Зиянье»? Но уж это образ, с детства мучивший Мандельштама: «Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья и между мною и веком провал, ров…». Наконец, «звон». Погребальный? Может быть. Но дело в том, что все эти догадки необязательны.
Соображаем, дочитав стихи и продолжая в них вслушиваться. Это самое слово, «звон», по звучанию своему — как бы срединное, связующее «туман» с «зияньем». В его «з» и «н» еще откликается «туман» [4] и уже нарождается «зиянье». И вдруг оказывается, что именно это слово, логическое обоснование которого в данном контексте наиболее зыбко, предположительно, — оно и завладевает строкой. Череда согласных, не считая, понятно, глухого начального «т», создает словно бы физически ощутимую иллюзию звона: м-н-з-в-н-з-н… Мы слышим, почти осязаем, как этот неясный для нас «звон», слово, которое вместе с эмоционально значимыми словами «туман» и «зиянье» вправлено, вплавлено в неразделимый, только в этом соединении и существующий ряд, — это слово тем самым ушло, отключилось от своего прежнего словарного значения. А мы начисто избавлены от необходимости гадать, что ж это, наконец, за звон, погребальный или благовествующий. Важно одно: слово обрело особую жизнь внутри стиха.