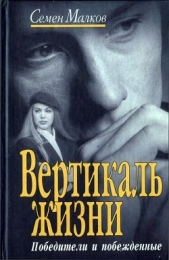Советская литература: Побежденные победители

Советская литература: Побежденные победители читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так это или не так, несомненна правота той же Ахматовой: «…Лучшее в романе — приложение к нему — Стихи доктора Живаго». Может быть, лучшее не только в романе, но во всей поэзии Пастернака.
Когда говорят, что в романе символика (Живаго, уподобленный Христу) сочетается с «красноречием частностей», с осязаемой материальностью быта, то словно бы рецензируют прежде всего именно Стихотворения. Где библейская тематика и библейская строгая простота рядом с таким: «Пойду размять я ноги… /…Без шляпы, без калош…». «Лист смородины груб и матерчат. / В доме хохот и стекла звенят, / В нем шинкуют, и квасят, и перчат, / И гвоздики кладут в маринад». Да, впрочем, и в стихах, перелагающих Евангелие, — земная, чувственная материальность. Как в Рождественской звезде: «У камня толпилась орава народу. / Светало. Означились кедров стволы. / — А кто вы такие? — спросила Мария. / — Мы племя пастушье и неба послы. / Пришли вознести вам обоим хвалы. / — Всем вместе нельзя. Подождите у входа». Или — в стихотворении Магдалина, в ревнивом по-женски зове «святой блудницы» к Иисусу, идущему на Голгофу: «Брошусь на землю у ног распятья, / Обомру и закушу уста. / Слишком многим руки для объятья / Ты раскинешь по концам креста».
Все это, включая мысль написать роман, выражаясь вульгарно, «читабельный», — победа над собственным эгоцентризмом. Пуще того — антиэгоцентризм, оборачивающийся жаждой утраты собственной индивидуальности (знакомо по разговору о Ярославе Смелякове?). Развоплощением, в чем, однако, поздний Борис Пастернак видит для себя воплощение подлинное и высшее. Не в «себе любимом», а в Боге, в людях: «Я чувствую за них за всех, / Как будто побывал в их шкуре, / Я таю сам, как тает снег, / Я сам, как утро, брови хмурю. / Со мною люди без имен, / Деревья, дети, домоседы. / Я ими всеми побежден, / И только в том моя победа».
Здесь будто нарочно переведены на стихотворный язык слова Михаила Михайловича Бахтина о вечном стремлении русской интеллигенции, неважно, насколько осуществимом: «Тяга, свойственная всем культурным людям, — приобщиться толпе, замешаться в толпу, слиться с толпой, раствориться в толпе, не просто с народом, а с народной толпой, толпой на площади…».
Отметим — в частности, ради разговора, предстоящего в следующей главе: не с народом как историко-культурным понятием, а именно с толпой, с живой массой, которая при случае (и вот в чем опасность этой тяги, Пастернака с его высочайшей духовной организацией миновавшая, слава Богу) может быть не только людьми, поднявшимися в атаку или выстроившимися в очередь к тюремному окошку. Может — и «трудовым коллективом», единогласно присягающим очередному вождю или голосующим за казнь неведомых ему «врагов народа»…
Странно (и не странно), что апология растворения в мире как вершины единения с ним вызывает в памяти стихи другого поэта, даже противостоящего Пастернаку — по судьбе, по поэтической эволюции, по постоянному самоощущению. Осипа Мандельштама.
В книге Zoo Шкловский пророчил Пастернаку: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим». Не сбылось, что не отменяет правоты слова «должен» — такова природа таланта, настроенного на счастье, — и вот уж чего нельзя сказать о Мандельштаме, который отнюдь не явился на свет изначально счастливым, предрасположенным к счастью. «Косноязычье рожденья», «знак зиянья» — вот с чем, по его же словам, входил в мир этот отпрыск вполне благополучной семьи торговца кожами, мучительно изживая сознание изгойства, исторической неполноценности, культурной незаконнорожденности. И изжил, может быть, полнее всего в стихотворении Ламарк (1932), в отличие от пастернаковской апологии развоплощение — страшном. Отсюда и кажущаяся странность сопоставления.
Вначале стихи поведут речь о прославленном натуралисте, располагавшем все сущее по принципу лестничной иерархии: от Бога к человеку, от человека — к четвероногим, птицам, рыбам, змеям, до низших организмов, до камней и земли. Речь — восторженную: «пламенный Ламарк», «за честь природы фехтовальщик». Но затем воображение поэта заставляет «подвижную лестницу Ламарка» — подобно, сказали бы мы, эскалатору — опускать его самого все ниже, ниже и ниже: «К кольчецам спущусь и к усоногим, / Прошуршав средь ящериц и змей, / По упругим сходням, по излогам, / Сокращусь, исчезну, как Протей».
«В обратном, нисходящем движении с Ламарком по лестнице живых существ есть величие Данте, — скажет Мандельштам прозой, в Путешествии в Армению (1923). — Низшие формы бытия — ад для человека». И стихотворное нисхождение, в котором Ламарку и вправду отведена роль тени Вергилия, в Божественной комедии сопровождающего самого Данте, — в самом деле есть спуск в ад, где все обезличены, все безымянны, все в этом страшном смысле равны: «Роговую мантию надену, / От горячей крови откажусь, / Обрасту присосками и в пену / Океана завитком вопьюсь. / Мы прошли разряды насекомых / С наливными рюмочками глаз. / Он сказал: природа вся в разломах, / Зренья нет — ты зришь в последний раз. / Он сказал: довольно полнозвучья, / Ты напрасно Моцарта любил: / Наступает глухота паучья, / Здесь провал сильнее наших сил».
Будто угадан собственный конец того, кому через шесть лет придется несколько дней проваляться бесхозным трупом на лагерной свалке, прежде чем лечь в общую яму среди прочих «людей без имен». Или «знак зиянья» разросся до масштабов апокалипсиса, который в реальности, неведомой Мандельштаму, будет готов превратиться в бесповоротность атомного финала, ядерной зимы?..
Что бы там ни было, и здесь — прекрасный демократизм.
Ад, преисподняя в воображении человека — всегда средоточие самого противоестественного. Отъятие самого необходимого. В апокалипсисе Мандельштама — не эгоцентрическая обделенность чем-то особенным, отличающим особь от особи, выделяющим ее из массы. Нет, просто — нормальным. Речь не о самом гениальном Моцарте, но о тех многих, в сущности, всех, кому не заказано слушать и любить Моцарта. Не об обладателе сверхзрения (по-пушкински: «Отверзлись вещие зеницы…»), а о всяком, кому дано «зрить».
То есть мандельштамовский ад — общий. Всечеловеческий. Даже на дантовский с его иерархическими кругами, но ад, которого не заслуживает никто.
И все же: демократизм — не слишком ли опрометчиво сказано применительно к поэту, как считается, смутному, зашифрованному, над толкованием строчек которого спорят-сражаются мандельштамоведы? И чем дальше от Камня (1913), классически, классицистически ясной первой книги, — тем зашифрованнее, смутнее.
Путь Мандельштама вообще противоположен схеме, согласно которой должен развиваться всякий русский поэт. Как и развивались сложные, «трудные» смолоду Пастернак или Заболоцкий. У Мандельштама — все как есть наоборот.
Вот Камень: «Над желтизной правительственных зданий / Кружилась долго мутная метель, / И правовед опять садится в сани, / Широким жестом запахнув шинель. / …А над Невой — посольства полумира, / Адмиралтейство, солнце, тишина! / И государства жесткая порфира, / Как власяница грубая, бедна». И вот сборник Tristia (1922): «Я научился вам, блаженные слова: / Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита…» «Все перепуталось, и сладко повторять: / Россия, Лета, Лорелея». «Я так боюсь рыданья Аонид, / Тумана, звона и зиянья».
Юрий Тынянов писал, что Мандельштам «больше, чем кто-либо из современных поэтов, знает силу словарной окраски, — он любит собственные имена, потому что это не слова, а оттенки слов. Оттенками для него важен язык…». А молодой и почтительный друг Мандельштама Семен Липкин однажды, не выдержав, робко взбунтовался против пренебрежения к собственно смыслу и предпочтения, отданного оттенкам. Спросил, почему в стихотворении 1917 года о супруге Одиссея сказано: «…Не Елена, другая — как долго она вышивала?». Пенелопа ведь не вышивает, а ткет, чтобы затем тайком распустить сотканное.