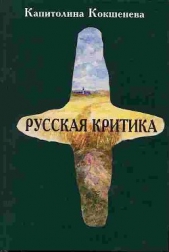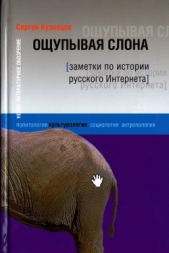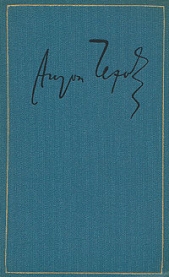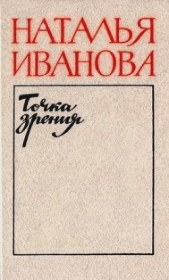Вместо жизни

Вместо жизни читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что до эмоций, мы властны произвольно вложить их в текст, как и в пейзаж: кому-то вид кавказских гор кажется грозным, кому-то – тихим и мечтательным; одни всерьез полагают, что большинство песен Щербакова ироничны, если вообще не задуманы как чистое издевательство,- другие же всюду у него видят трагедию, а сам он своей поздней, новой манерой, в высшей степени амбивалентной, убирает уже всякие подсказки. Обратим внимание, что Щербакова становится все приятнее слушать (в некоторых вещах появляется почти попсовое звучание), но к замыслам его ранних песен – выпущенных, например, на американской кассете 1999 года – позднейшие аранжировки относятся весьма касательно: возьмем хоть «Трубача», былой манифест нашего героя, ставший паролем для множества его слушателей – и исполняющийся теперь под какое-то шарманочное похрюкиванье.
Не помню, кому принадлежит мысль, что концерт Щербакова по интенсивности слушательской работы можно приравнять если не к чтению хорошего стихотворного сборника, то к освоению основательной подборки уж точно; случалось и мне произносить что-то подобное, и большую глупость трудно придумать. Восприятие пейзажа нельзя назвать работой, и слушание щербаковских текстов должно по идее доставлять прежде всего наслаждение, очищать и возвышать душу, как возвышает ее свежий воздух или уже упоминавшийся вид «неба с бегущими по нем облаками» – любимый образ Щербакова из любимой книги Щербакова. Нельзя дальше отойти от щербаковского замысла, как угрюмо и упорно вдумываясь в смысл, перечитывая тексты,- в бумажном виде тексты вообще оставляют впечатление какой-то вот именно что бумажной, картонной сухости, безэмоциональности и необоснованного многоречия. Щербакова надо просто слушать, никаких истин в его сочинениях не открывая и никаких тайных смыслов не ища. Сам он в одном из ответов на записки определил свой метод очень точно: помнится, его спросили о смысле латинских слов в одной из самых, на мой взгляд, малоудачных его песен – «То, что хотел бы я высказать…». Песня эта, о муках слова, не компенсирует общей банальности текста ни изяществом и легкостью мелодии, ни остроумием словесной игры. Это довольно претенциозное и какое-то отроческое по духу сочинение (какие и у Лермонтова, ближайшего родственника Щербакова в русской поэтической генеалогии, случались вдруг даже в последние годы) содержит вдобавок десятка полтора латинских слов, в которые тщетно вдумывались самые рьяные и очкастые из поклонников нашего героя. На вопрос о цели этой странной вставки Щербаков ответил в том смысле (за дословность не ручаюсь), что тут полагался скрипичный проигрыш, но за невозможностью организовать последний он вынужден прибегнуть к нескольким благозвучным иноязычным словам. В этой шутке, конечно, есть доля шутки, но по строгому счету, даже если Щербаков не предполагал сформулировать таким образом свое кредо, он высказался на редкость откровенно. Подразделяя свои песни на «Песни безумца» и «Песни без слов» – и это опять-таки самое точное, что было сказано о его сочинительстве,- он к числу первых отнес все свои манифестации, декларации, позднеромантические гимны свободе и одиночеству, все «королевства», все мизантропические экзерсисы, которые лишний раз доказывают, что поэт никогда не получит права называться поэтом, если научится обходиться без социальности вообще. Щербаков социален, и все его игры в небожителя (скорее, конечно, пародийные), все попытки окончательно превратиться в одинокого Знайку не приводят к отказу от нескольких неизбежных гражданственных тем. Щербаков не был бы Щербаковым без «Жителей социума, не могущего без войны», без «Города слез» – и в особенности без замечательно трезвой песни 1989 года «Вот поднимается ветер»: в ней не только декларируется право художника принадлежать к «некоей части народа» и разделять ее иллюзии,- это почти вменяется в обязанность ему, ибо позиция априорного уныния и скепсиса как-то очень уж безнравственна, при всей своей беспроигрышности. Но это все – «Песни безумца», число которых с годами убывает; «Песни без слов», в которых определяющую роль играют свобода, масштаб и сладкозвучие, суть фирменный знак Щербакова, его главное достижение. Здесь он ближе всего подошел к осуществлению своей (а впрочем, общей, вспомним хоть Мандельштама) мечты о слиянии слова с музыкой, о растворении в природе и словаре, о полном исчезновении всего личного,- стоит ли сетовать на многословие и даже на бессмысленность многих из этих ажурных, воздушных конструкций? Облако, как мы знаем, тоже не пощупаешь. Пар – он и есть пар. Да и небо, в общем, по выражению одного известного персонажа одного известного романтика,- «пустое место».
К сожалению, совершенно отказаться от слов поэзия не может (еще Бродский сетовал на то, что «искусство поэзии требует слов»; насколько легче все-таки чистому музыканту!). В связи с этим Щербакову приходится использовать такие банальные, сугубо самоподзаводные поводы для достижения лирического транса, как, например, несколько уже набившая оскомину тема прощания с ремеслом, отречения от амплуа (в этом смысле «Флейтист» почти ничем не отличается от относительно недавней песенки о том, как природа не терпит пустоты). В этом же ряду – очередная, хоть и довольно остроумная вариация на темы независимости и непривязанности ни к чему («Эпилог»), в которой многословие, увы, уже не искупается хорошим темпом и изобретательной рифмовкой. Наконец, и самый пылкий поклонник Щербакова не может не заметить ритмических, да и мелодических сходств между «Лунной сонатой» и «Серенадой». Но поскольку и пейзаж, морской или горный, разнообразием не блещет – поди отличи лунную ночь в Неаполе от лунной ночи в Гурзуфе, если, конечно, в кафе на набережной временно умолкнет музыка,- эта претензия тоже не имеет значения. Да и не пора ли подходить к этому небывалому роду словесного творчества с принципиально новыми критериями? Ведь если описания пейзажа вам преподносят сам пейзаж, пусть и выполненный в принципиально иной технике,- стоит, право, отказаться от мелких придирок. А их, кстати, к позднему Щербакову при желании можно накопить немало,- возьмем хоть упомянутого «Флейтиста»:
Я тебе, застолье, больше не тамада.
Поищи другого дурачка с бубном.
А где прежний, с флейтой,- на дне ли, где вода,
во сне ли непробудном,-
что за нужда?
В очередь, туземцы,- чин чина почитай,
подавай бумаги на замещенье,
с пользою приятность, ой, в меру сочетай,
иногда и угощенье
вынь да подай!
Боюсь, автор склонен несколько преувеличивать значение своего творчества для туземцев, от которых он ожидает целого конкурса на замещение вакантной должности дурачка с флейтой. Туземцы относятся к флейтистам без особой любви и уж явно не рвутся занимать их место,- искать дурачка с бубном явно придется не один день. Прослезиться спьяну под виртуозную музыку они способны, могут и поднести музыканту, но ни он их, ни они его любить не настроены. Наконец, тамада, столь откровенно презирающий застолье,- явно плохой тамада. Когда «поутру проснется, ой, целый белый свет, выглянет за ворота – а меня нет», вряд ли многие туземцы искренне заплачут по своему флейтисту, который так странно сочетал с пользою – приятность, а функцию тамады, потешающего застолье, с имиджем замкнутого и презрительного мудреца-странника. Кстати, этой же двойственности, столь заметной на публичных выступлениях, которые по самой своей природе предполагают контакт с залом, Щербакову некоторые его поклонники не прощают. Очень зря. В сущности, презрение к толпе и одновременно зависимость от нее (хотя бы потому, что любой текст предполагает какое-то восприятие) есть довольно древняя романтическая коллизия, многими отыгранная,- иное дело, что смешно предполагать в толпе какие-либо чувства к певцу, кроме снисходительности, и в этом смысле, пожалуй, Пушкин был подальновиднее большинства современников. Щербаков покуда не настолько циничен, чтобы совсем уж не придавать значения народной любви или нелюбви к себе (да к тому же он от нее напрямую зависит, ибо выбрал честный и рискованный путь отказа от любого заработка, кроме авторского и исполнительского,- случай редкий, если не единичный, в сегодняшней литературной среде). Платой за такую независимость от социума становится зависимость от зала. Ничего не делая для распространения собственных текстов, не публикуясь (во всяком случае, по собственной инициативе) в толстых журналах, не организуя рецензий на себя, не занимаясь никаким собственным пиаром,- Щербаков оказывается в некотором смысле заложником своей постоянной аудитории, которая во всем мире достаточно велика, но и достаточно требовательна. Конечно, она все простит своему кумиру и во всяком его новом слове усмотрит глубинный смысл, но именно такое отношение аудитории (страшно гордой своей клановостью) приводит к некоторому снижению планки, самоповтору, к полному уже выхолащиванию смысла. Впрочем, Щербаков зашел в своем одиноком скитальчестве так далеко, что у него нет соперника (он вообще почти в одиночестве разрабатывает открытую им золотую жилу), а потому ему не с кем соревноваться и сравниваться. Дело же, которым он занят, поистине грандиозно, и называется оно развитием русской просодии. Бродский основательно расшатал ее и завел в тупик, окончательно, кажется, избавившись от всякой музыкальности,- Щербаков же, как сказано выше, возвращает слово в музыку и ищет новые возможности развития русского стиха, изобретая и омузыкаливая совершенно немыслимые, однако строго соблюдаемые, регулярные размеры. Сам он охарактеризовал эти свои попытки следующим образом: