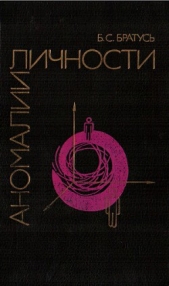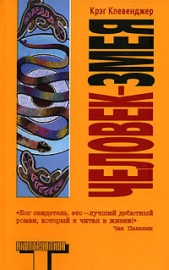След: Философия. История. Современность

След: Философия. История. Современность читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Христианство у Аксакова было не чем иным, как воспоминанием о довременной небесной родине. Но в раю Адам жил с Богом. Христос явился в мир, чтобы напомнить людям об этой богосыновней сращенности. «Я и Отец одно».
На свой лад говорит об этом и языческая мудрость. «Идеализм» Платона, как давно уже доказано, ничего общего не имеет с «гипостазированием понятий», с возведением на онтологический уровень логических отношений. Его философия не идеальна, а реальна, онтологична, бытийна. Но место бытия — «небо», мир безвременных эйдосов, первореалий бытия, его «порождающих моделей». И знание у Платона — это воспоминание.
«Языческое» обличье аксаковского (славянофильского) христианства, видение неба в символике земли лучше будет назвать сохраненной в славянофильстве ветхозаветной интуицией. В этом все своеобразие славянофильского христианства — в сращенности Ветхого и Нового Заветов, в том, что было утрачено в «историческом христианстве» — или в протестантской теологии Нового времени.
Аксаков в подлинном смысле патриархален, и не только психологически, но и бытийно, онтологически. Это — Адам в раю. Для него немыслима жизнь без Отца. Он умирает через год после смерти своего отца, Сергея Тимофеевича, «отесеньки». А ведь был он человеком богатырской складки, делал десятки верст пешком и зимой открывал окна, чтобы доказать благодетельность русского мороза.
Индивидуально-психологическая сращенность с глубочайшей мифологемой — вот что такое славянофильство Аксакова. Снова мы от индивидуальной психологии выходим к объективной онтологии, интуиция которой — главное в славянофильстве. За партикулярными «мнениями» славянофилов, за их мистифицированным и мифологизированным образом России обнаруживаем воспоминание о небесной родине.
Лучше всех помогает понять Аксакова (да и славянофильство в целом) Лев Шестов — этот иудей, всю жизнь стремившийся к утраченному людьми раю.
Читая Хомякова, особенно часто вспоминаешь слова прот. Василия Зеньковского о необходимости различать славянофилов в славянофильстве. Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) сильно отличается от Киреевского и Аксакова. Эти двое, как мы старались показать, — мистики, Хомяков же — реалист, крепкий земле, человек, несомненно, мужественного, несколько суховатого типа. Все же не следует думать, как это делает Бердяев, что Хомяков — самый репрезентативный из славянофилов, что славянофильство прежде всего — это Хомяков. Киреевский с Аксаковым и Хомяков комплиментарны, они восполняют друг друга. И когда Бердяев сетует на то, что в мысли Хомякова мало ощущалось вечно-женственное, Душа мира и что вообще славянофильской религиозности была чужда правда язычества, стихия Матери-земли, — то он явным образом забывает об Аксакове. Так же неточен Бердяев, когда он, имея в виду Хомякова, говорит о «религиозной сытости» славянофильства, каковое свойство, по Бердяеву, отделяет славянофильский романтизм от романтизма западноевропейского: здесь Киреевский и Аксаков опять же дают необходимый корректив к Хомякову. «Обладание» жизнью в Боге, которым, казалось бы, мог гордиться Аксаков, было на самом деле «томлением». Романтизму в целом, как показал Н. Я. Берковский, присущи оба этих состояния: «томление» (мистицизм, потусторонняя устремленность) и «обладание» (почвенность, острое ощущение плотяных стихий). У немцев эти два начала в романтизме были выражены соответственно в иенской и швабской школах. У Берковского есть мысль, что упадок в немецком романтизме связан с движением от «иенцев» к «швабам»: мы слышим подобный мотив в русской критической литературе о славянофилах, когда она говорит о «разложении» славянофильства. Это представляется нам неверным. «Иенское» и «швабское» начала в романтизме, «Киреевский» и «Хомяков» — две стороны одной медали, два полюса, между которыми только и возможно романтическое напряжение, пульсация романтического жизнеощущения, это «разность потенциалов» в единой романтической системе. Только эта разность делает возможным романтическое становление, то есть движение, развитие. С этим связана тема романтической иронии. Романтическая ирония конструируется как принцип отрицательный, она отвергает конечный творческий продукт, в искусстве силящийся моделировать целостную полноту бытия, она указывает на невыразимость целого. Эту тему позднее развил Бердяев в «Смысле творчества». Целостность бытия может быть мистически интуирована, но она невыразима в эмпирически-конкретных реалиях (как мы уже знаем, это тема Киреевского). Очень интересно тему романтической иронии развил Гегель: у него она называется диалектикой. Гегель определяет диалектику как процесс, в котором всеобщее отвергает форму конечного. Это и есть принцип развития. В славянофильстве развитие стало возможным, потому что в нем были и Киреевский, и Хомяков.
Но если в случае Киреевского мы можем точно указать, какой из романтических коррелятов у него выражен (интуиция всеобщего, «ценностей состояния», по Степуну), то в отношении Хомякова такая точность вряд ли достижима. С одной стороны, он проповедник христианского Логоса (основное в бердяевской трактовке Хомякова), с другой — несомненный «шваб» славянофильства. У него несколько нарушено то синкретическое переживание целостности бытия, то нерасторжимое единство идеального и реального, которое отличало интуицию Киреевского и Аксакова. Он вообще не интуитивный тип, иногда его мысль отдает чем-то вроде протестантской рассудочности. Бердяев говорит, что у него этика преобладает над мистикой — протестантская тенденция, и даже не лютеровская, а позднейшая, «либеральная». Да и почвенничество Хомякова не такое уж «швабское», менее всего интуитивистское: здесь он тоже «различает» и «определяет». У него временами появляется нечто шпенглерианское, «физиогномическая цепкость взгляда», как определяет это свойство Шпенглера современный исследователь. «Записки о всемирной истории» — плоды исторических (сегодня бы мы сказали — культурологических) штудий Хомякова — дают тому немало свидетельств.
Как известно, в «Записках» Хомяков произвел разделение всемирной истории на два начала — иранское и кушитское. Первое начало — свободы, второе — необходимости; «партийная» цель Хомякова была в том, чтобы выявить «иранский» корень России. Но здесь важен момент не содержательный, а методологический. Методологическая установка была «шпенглерианской»: из единого «прафеномена», как называл это Шпенглер, вывести все многообразие явлений той или иной культуры. «Кушитство», например, Хомяков видит в таких отдаленнейших, хронологически и пространственно, явлениях, как финикийская религия, буддизм, магометанство, гегельянство, материализм. Безусловно, огромное отличие от Шпенглера — в дуализме этой концепции, тогда как шпенглеровская плюралистична, Хомяков сравнивает оба начала и отдает предпочтение одному из них, у Шпенглера же никакое (ценностное) сравнение и предпочтение невозможно. Здесь — тот недостаток Хомякова, который Бердяев назвал морализированием над историей. Зато в противоположность этой морализирующей тенденции и совсем уж по-шпенглеровски звучат такие слова Хомякова:
Нужна поэзия, чтобы узнать историю; нужно чувство художественной, то есть чисто человеческой, истины, чтобы угадать могущество односторонней энергии, одушевлявшей миллионы людей17.
От «односторонней энергии», одушевляющей историческое бытие народов, не так уж далеко до теории культурно-исторических типов Данилевского, потомка славянофилов и русского предшественника Шпенглера. У Хомякова есть статья «Разговор в подмосковной», где высказана мысль о национально-культурной своеобразности математики, — несомненно, дикая для его современников, но совершенно приемлемая после Шпенглера. (Из славянофилов с подобными мыслями носился Юрий Самарин, статья которого «О народности в науке» наделала много шуму и послужила поводом для долгой дискуссии славянофилов и западников по этому вопросу.) Интересно, что в истории человечества Хомяков обнаруживает некий прасимвол — змею, в отношении к которому конструируются иранское и кушитское начала: чисто шпенглерианский ход мысли.