Корни сталинского большевизма
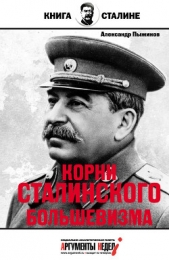
Корни сталинского большевизма читать книгу онлайн
О революции и Сталине написано многое, но в данной работе автор предлагает по-новому посмотреть на нашу историю. В основе книги – взгляд на различие ленинского и сталинского большевизма. Эти два течения имели разные истоки, социальную базу, идейные устремления. Не будет преувеличением сказать, что объединяла их только внешняя «вывеска» и набор общих лозунгов, чем во многом и ограничивается их схожесть. Понимание этого обстоятельства открывает новые горизонты не только с научной, но и с практической точки зрения. Позволяет более глубоко осмыслить бурные события отечественного XX века. Книга будет интересна всем, кому не безразлична история своей страны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сектантская тема прозвучала на XIII съезде РКП(б) при обсуждении тезисов «О работе в деревне». Оптимизм Бонч– Бруевича разделяли партийные руководители первого ряда. Так, Г. Е. Зиновьев считал, что в крестьянской стране необходимо проводить гибкую политику, особенно в антирелигиозной области, а как раз здесь в девяносто девяти случаях из ста происходит «грубая мазня». Нужно учитывать менталитет крестьянства, поучал он, а не требовать от них знания трех томов Маркса [441]. Зиновьева поддержал А. В. Луначарский, который видел в России зародыш реформации, разбившейся на различные религиозные оттенки: «многие из них близки нам, их следует вовлекать в нашу работу, а не отталкивать и не устраивать враждебную демонстрацию против сектантства» [442]. Что любопытно, благосклонность к сектам проявлял даже Сталин. В 1924 году будущий вождь «всех времен и народов», принимая делегацию толстовцев-духоборов, делал откровенные реверансы в адрес их честности и трудолюбия [443].
Правда, далеко не все в партийном руководстве разделяли подобные настроения. Речь, прежде всего, о тех, кто по долгу службы занимался идеологической пропагандой. Например, Е. М. Ярославский не верил в тягу сектантов к коммунистическим началам жизни, а также ставил под большое сомнение данные об их численности [444]. И. И. Скворцов-Степанов был уверен в мелкобуржуазной природе сектантства, и потому ответ на вопрос, о смычке пролетариата и деревенской буржуазии с сектантами, не представлялся ему таким же очевидным, как Бонч-Бруевичу [445]. Однако тот продолжал отстаивать свою точку зрения, призывая оппонентов тщательнее изучать народ, которым они управляют, и, наконец, дать себе отчет в том широком народном движении, «которое существует в России более тысячи лет» [446].
Важно напомнить, как в идейных конструкциях Бонч-Бруевича соотносились сектантство и старообрядчество. Он считал, что под воздействием прогрессивного сектантства религиозно-идейная самостоятельность староверия заметно девальвировалась. Старообрядчество, прежде всего «не приемлющее священство», то есть беспоповщина, совершенно оторвалось от старых религиозных (православных) форм и почти слилась с сектантством [447]. Не случайно, упомянутое выше «Воззвание», в первую очередь, подразумевало именно сектантов: из двадцати перечисленных в нем сект только три относятся непосредственно к староверческим согласиям [448]. В этом отношении Бонч-Бруевич наследовал традиции Серебряного века, когда родство сектантства и беспоповщины выводили из отсутствия иерархии и минимизации обрядовой стороны, присущих как одним, так и другим (именно эти обстоятельства стали определяющими). В тоже время, на различия в религиозных архетипах, на которых зиждились сектантство и беспоповское староверие, внимание не заострялось. Между тем, они имели принципиальное значение, гораздо большее, нежели общее неприятие священства и обрядов. Религиозное мировоззрение старовера определялось следующим образом: моя земля – мои предки – моя вера; кто не связан с этим, тот чужой. Отсюда жесткая национальная идентификация; ее приоритет по отношению к другим религиозным элементам очевиден.
В данную конструкцию не вписывалась паства господствующей православной церкви (к ней относилось подавляющее большинство чиновничества и интеллигенции), то есть те, кто для истинных русских староверов пребывал в лоне греко-антиохийской веры с «латинским душком». На наш взгляд, именно здесь кроются истоки отчужденности (граничившей с ненавистью), которую испытывала значительная часть русского простонародья к духовенству и к образованным слоям российского общества.
Сказанное в полной мере относится и к сектантству: религиозные течения, ставившие во главу угла интерпретации Священного Писания и мистический опыт, казались чем-то вроде занесенного с чужбины «мусора». Если говорить о географии сектантства, то оно преобладало в южных регионах России, на Северном Кавказе, на Украине. То есть там, где позиции староверия никогда не были сильны. В социальном смысле сектантское движение позиционировалось как крестьянско-интеллигентское, тогда как староверие служило основным резервом для формирования индустриального пролетариата. Вспомним главных действующих лиц «рабочей оппозиции», о которых шла речь в предыдущей главе. Подавляющее большинство их – выходцы именно из беспоповской среды, с характерной жгучей ненавистью к интеллигенции. Представить, что их предводителями могли быть представители сектантства, нелегко. Некоторые как, например, Смидович, глава комиссии по делам культов при ВЦИКе, чувствовали, что никоим образом нельзя смешивать староверов и сектантов, подводя их под один знаменатель [449]. Однако, Бонч-Бруевич и его сподвижники с завидным упорством пытались выстраивать некий «мост» между правительством и самой большой частью населения – крестьянством. Как считают исследователи, это была продуманная программа действий по сближению власти с сектантскими общинами и одновременно по получению последними частичной автономии [450].
Иными словами, была сделана попытка превратить русское сектантство в самостоятельный фактор политической жизни страны. Староверие же в лице беспоповщины, отодвинутой на задворки сектантства, в этих идеологических построениях не занимало значимого места. Бонч-Бруевич был совершенно прав, когда говорил об оторванности беспоповства от старых религиозных форм как о свершившимся факте. Ошибался он в другом: и после 1917 года здесь никто не собирался ни ориентироваться на сектантство, ни, тем более, к нему пристраиваться. В обширных великорусских территориях (в отличие от вышеперечисленных) сектантство явно не приживалось [451]. Причем в этой конфессиональной среде зримо прослеживалась тенденция: распад старых «доморощенных» сект и заметный рост новых. Под старыми сектами имелись в виду различные старообрядческие согласия и толки, которые по традиции, привитой «Серебряным веком», относили к сектантам. А под новыми – усиливающиеся баптисты, адвентисты, евангелисты, пятидесятники и т. д. Но главное: рост этих молодых сект происходил не столько за счет старых (т. е. старообрядцев), сколько за счет приверженцев православия [452]. Иначе говоря, именно староверы оказывались чужды и не подвержены сектантским влияниям. С другой стороны, размывание вероисповедной практики беспоповщины сводило на нет возможность какого-либо участия этих согласий в религиозных проектах, о чем грезили сектантские лидеры вместе со своим советским покровителем. Вместо развития религиозных практик выходцы из староверия оказались движущей силой другого проекта, ставшего для многих из них заменой религиозному. В отличие от сектантства энергия староверия аккумулировалась уже вне религиозного опыта и внутри победившей власти, тем самым привнося в нее «родимые пятна». Отсюда не случайно меткое наблюдение Б. Рассела: «социальный феномен большевизма следует рассматривать как некую религию, а не просто политическое движение» [453].
Указанные процессы набирали силу вместе с восстановлением пролетарских кадров, начавшимся с середины 1920-х годов. Если перед Мировой войной свыше половины рабочих были потомственными пролетариями [454], то к концу войны их ряды заметно поредели. Поэтому восстановление производства, снизившегося в результате военных потрясений, в первую очередь означало укрепление рабочих рядов. В литературе господствует мнение, что в середине 1920-х годов эта задача решалась исключительно за счет крестьян, приезжавших из деревни. Из-за этого может сложиться впечатление, что предприятия наполнялись случайными людьми с улицы. Однако, здесь кроется большое заблуждение: восстановление рабочих кадров не было спонтанным, оно осуществлялось в рамках примерно той же трудовой парадигмы, что и в дореволюционный период, причем это зафиксировано в советских трудах. Наметившийся экономический подъем способствовал тому, что большое количество рабочих возвратилось на производство, возобновив работу после длительного перерыва. В 1922–1925 годах численность таких кадров в общей массе составила: среди металлистов Питера – 82 %, Москвы и области – 80 %, Украины – 83 %; среди текстильщиков Питера – 83 %, Москвы и области, Иваново-Вознесенского района – около 90 %; среди металлургов Украины – 78 %, Урала – 80 %, шахтеров Донбасса – 70 %, Урала и Сибири -74 % [455].
























